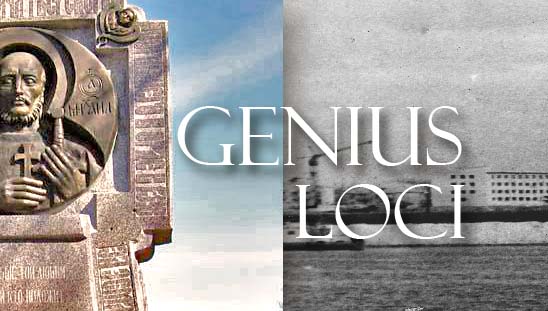2015
Старое Заволжье напоминает картину после кораблекрушения, когда на поверхности моря после того, как в него погрузилось судно, остается некоторое количество мусора, вокруг которого на шлюпках и плотах барахтаются спасенные пассажиры. Масштаб градостроительной катастрофы (иначе не назвать то, что здесь случилось в 1960-1980-х гг.) впечатляет. От кварталов между Петербургской заставой до Нового моста не осталось почти ничего: среднее количество уцелевших исторических объектов – один на квартал.
Можно их все и перечислить. От заставы (которая, как и Московская, не сохранилась), в квартале до переулка Никитина – одно здание военного ведомства начала XX века (наб. Афанасия Никитина, №150), входившее в комплекс артиллерийских казарм. От переулка Никитина до улицы Скворцова-Степанова – остатки комплекса тюрьмы, чрезвычайно любопытные и не стоящие ни на какой охране (нет их даже в «Своде памятников»). Сама тюрьма не сохранилась, но остались ее служебные помещения середины XIX в. (ул. Горького, №107)
Между улицей Скворцова-Степанова и улицей Благоева нас встретит только бывшее административное здание 1900-х гг., оставшееся от когда-то занимавшего полквартала небольшого завода у места снесенной церкви апостола Филиппа (дом №84 по набережной, постройка начала XX в.).
...да на «нижней набережной», то есть за набережной, но ближе к Волге – донельзя перестроенное при переделке под магазин здание школы (единственный здесь уцелевший деревянный дом (наб. Афанасия Никитина, №31) - тоже начало XX в.
Зато в следующем квартале (до Коннозаводского переулка) – нет вообще ничего старинного, и сам квартал изменил свои исторические границы. До площади Мира остался лишь один дореволюционный дом на набережной (на фото ниже - между двух домов, №72), а кроме того, отсюда начинается застройка «сталинками», еще по планам и проектам тверских послевоенных архитекторов-неоклассиков.
Их творения в какой-то степени компенсируют утрату здесь всякой истории. Но зато храма Вознесения за Волгой, державшего площадь и бывшего здесь главной и очень древней доминантой, увы, давно нет. За площадью только полностью перестроенный послевоенный дом вобрал в себя остатки двух дореволюционных особняков. Его реконструкция в прошлом году грозит стать еще одной грустной «сенсацией», когда задумывавшийся неплохой проект в итоге останется только проектом.
Дальше хрущевка сменила три снесенных ради ее строительства старых дома. И лишь вокруг храма Воскресения (Трех Исповедников) сохранились, так сказать, «на память», четыре здания старой набережной, в том числе два (духовного училища и кавалерийских казарм) – XVIII века. Ресторан «Якорь» на нижней набережной - здание 1910-х гг., полностью сохранившее старый объем, но полностью перестроенное в 1970-х. Далее идет вновь советская застройка, местами неплохая, но полностью уничтожившей историческую (кроме остатков двух усадеб в глубине кварталов, о которых мы уже писали).
Вот такая бухгалтерия. Если добавить сюда еще несколько старых деревьев, то список старины будет исчерпан. Это все, что подарил советский город одному из старейших городских посадов Твери в память ему о нем самом. А что оставил свое взамен?
Взамен мы получили типовой район, застроенный пяти- и девятиэтажными домами (последние строились уже в 1980-х, например, №144 по набережной). Этот последний неожиданно оказался с «изюминкой». Когда он строился (а строили его в первую очередь как жилье для семей военнослужащих, как и почти все дома в этом районе) на верху фасада начали выкладывать выступающую кирпичную надпись «Слава строителям». Надпись гордо красуется там и сейчас. Первые две буквы ее набраны, условно говоря, строчными буквами, остальные же – заглавными. В общем, полученный лозунг «слаВА СТРОИТЕЛЯМ!» было решено не демонстрировать (не выделено краской), но и не демонтировать. Такая вот шутка от стройбата.
Она – своеобразный девиз. Если угодно – квинтэссенция тверского строительства последних советских десятилетий. Ибо, что бы ни говорили об этом жилье с точки зрения его практической полезности, решительно никакой красоты в нем нет. «Хрущевки» (а правильнее сказать, «брежневки», ибо почти все они, и кирпичные и панельные, редко построены в последние год-два правления Хрущева, а больше уже после него) относятся к двум-трем поздним сериям, где архитектурные излишества отсутствуют как таковые. Этот импульс – пренебрегать архитектурой ради квадратных метров – живет, к сожалению, и в наши дни.
Будучи ребенком, я общался с одним из строителей этих зданий, профессиональным строителем прежней школы (а надо напомнить еще раз, что разрыв между «нормальным» и массовым строительством произошел в СССР почти мгновенно, чем поверг в шок многих привыкших к тщательной классической отделке старых мастеров). Дядька чуть не плакал, перечисляя, какие узкие специальности каменщиков и штукатуров отмерли с началом строительства этих домов. Особенно он жалел ставших ненужными мастеров, умевших хорошо выводить карнизы разного профиля. Много позже, столкнувшись с фактом тотальной неспособности современных строителей вывести простейший ровный карниз, я понял, что это значило.
Но современникам этого строительства такие дома, вероятно, казались вполне даже свежими и интересными. Все построенное когда-то бывает новым и свежим. Хрущевки (тоже интересная и специфическая деталь именно их) редко выходят на улицу фасадом. В некоторых местах они выходят на красную линию вообще торцевыми углами, но здесь, на улице Горького, - просто торцами. Когда-то это выглядело оригинально и весело. Кроме того, дома открыты улице, не образуя привычных дворов-коробочек. Даже детские площадки при них принадлежат «городу и миру», так что нельзя сказать, какая из них – площадка какого конкретного дома. Они общие по определению, что во времена советского детства было особенно приятно. Потому что можно было ходить (и ходили!) из многих домов и даже с самых дальних концов района на какую-нибудь новооткрытую детскую площадку – осваивать немудреные детские качели-карусели 1970-1980-х. Хотя некоторые бабки, сидевшие на лавочках и, понятно, знавшие всех «своих», нас гоняли, это мало действовало. Да и как гонять? Куда? При этих домах заборы невозможны.
В довершение эффекта – хрущевки района улиц Благоева-Скворцова-Степанова были через одну общежитиями (семейными – для офицеров, поскольку чуть не весь этот район в той или иной степени был в ведении министерства обороны). Это был настоящий апофеоз советского жилья, формировавшего советского человека, космополита, человека «голого», если присмотреться к его быту. Всей той сложной шкуры традиций и условностей, которую несет на себе традиционный мещанин, у него не было. Да и вообще какой-то мещанской малой родины, деревенского сообщества или уличной общины не имелось. К любым новым модам и веяниям он был открыт и, при агрессии этого нового, беззащитен от него. Это больно сказалось в переломные 1990-е.
Предельным выражением этой наготы была бы открытость перестраиваемых кварталов не только на улицу Горького, но и на Волгу. Но то ли что-то сработало у архитекторов на уровне генов, то ли просто жаль было места, но пятиэтажки вытянулись по набережной длинной ширмой, псевдо-«фасадой», перемеженной кирпичом девятиэтажного дома с магазином, который, помниться, всегда в советские годы так и назывался - «девятиэтажный» (своего личного имени он не сподобился, ибо имя – уже какая-то собственность, выделение из безликой массы)...
Все-таки как странно: за какие-то семь лет (1957-1964) произошел градостроительный сдвиг, не имевший аналогов по своему размаху! Будто треснули тектонические пласты. И едва ли можно связывать произошедшее только с Хрущевым. Здесь сложились вместе какое-то судорожное издыхание идеологии (олицетворением чего был, действительно, Н.С. Хрущев), смена поколений архитекторов и горожан, специальное изглаживание памяти о дореволюционной России - много всего, тут кратко и не перечислить. Но факт - эти перемены в архитектуре не вызвали общественного отторжения, скорее наоборот, приветствовались, особенно в среде молодежи. Не подобное ли мы видим и в наши дни, когда наблюдаем то же поразительное равнодушие к судьбам старой, часто уникальной городской застройки?

Ужас такой градостроительной революции в этом районе Твери состоит еще в том, что типовая застройка здесь появилась на месте городской среды очень древней и живой, умирать не собиравшейся. Но кто даже помыслит сейчас, что где-то в кварталах переулка Никитина, улиц Скворцова-Степанова, Благоева и Горького когда-то были слободки, в Средние века поднимались храмы «Оксинья святая», «Евдокия святая», «Дмитрий святой на всполье», Троицы, Николы над Ручьем и еще нескольких других? И ладно бы храмы средневековья, те исчезли давно, но в то, что здесь были невысокие беленые домики, аккуратным рядом тянувшиеся от заставы к мосту, деревянные дома-пятистенки, частью исконные, частью при НЭПе свезенные на соседние улицы - верится с трудом, несмотря на свежесть предания.

В завершении темы, приходится опять обращаться к деревьям – хотя бы к зелени эта массовая застройка была сравнительно лояльна. Я очень люблю оставшийся тут старый дуб. Он растет у торца хрущевки №91 по ул. Горького в том пространстве, которое можно условно назвать двором. Подойдя к нему, можно представить себе, что жизнь как-то была и здесь в формах более человеческих и пристойных, с садами, огородами и сиренью под окнами. И хотя, конечно, люди и здесь жили всяко (и наверняка не всегда свято), но хотя бы – на своей земле.
© Павел Иванов
Продолжение следует...
|
Метки: genius_loci Заволжье |
Для печати
К началу |
|
- "Genius loci". Часть XXXIX. Посад, монастырь и слободки
- "Genius loci". Часть XXXVIII. Купеческое Заволжье
- "Genius loci". Часть XL. Троицкий приход