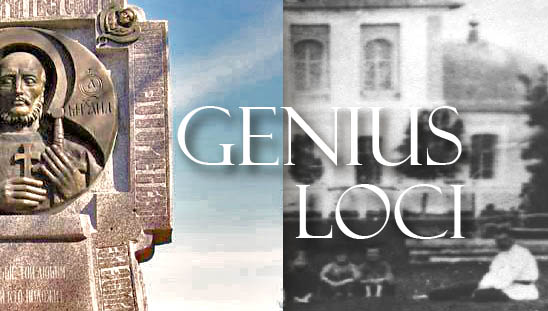2015
Из всех районов Твери, которые я когда-то полюбил помимо того маленького уголка города, где прошло мое детство, больше всего запала в сердце Волынская слобода.
Нет сейчас такого объекта на карте города, Волынской слободы. Она располагалась близ места храма Николая чудотворца (а позднее – Благовещения с Никольским приделом) в конце Волынской улицы, в районе, где улица заканчивается купами старой сирени Волынского кладбища. Но не существует четких границ, где именно «еще» не слобода, а где - «уже» слобода. Если определять ее в нынешнем Заволжье, то это будет неровный квадрат между Тверцой, Соминкой, новым Тверецким мостом, а с запада – улицей Коноплянниковой (Воскресенской) на последнем ее отрезке за мостом. Еще недавно малоэтажная застройка оставалась здесь довольно цельным фрагментом и южнее моста – почти от Ботанического сада, составляя защитную полосу реки, ее жизненно необходимую преграду перед люмпенизированными обитателями высоток.
Именно здесь находится единственный здесь фрагмент старой застройки действительно исторической, с удивительно как пережившим советские реконструкции старинным домом 1770-х гг., настоящими палатами, прямо на набережной Тверцы. Этот кусочек старого города потерпел чудовищный урон в 2012 году по барской воле какого-то придурка, вздумавшего выстроить себе здесь дворец с причалом и уничтожившего два старых дома из пяти. Дворец так и не появился (пока), район был испорчен, но старейший дом Заволжья, благодаря его хозяевам, оказавшимся более стойкими, чем предполагалось, уцелел.
А вот сожженные тогда деревянные дома, в том числе знаменитый "дом бакенщика" с башенкой, 1915 года постройки - так и напоминают о том преступлении.
Но по писцовым книгам «Волынь» - это другое. Это все, что было по правому берегу ручья, впадающего в Тверцу и называвшегося прежде «Бухань». А то, что по левому берегу Буханского ручья – это не Волынь, а другая слобода - «Выползиха», по сути, узкая гривка сухой земли, где поместится от силы десятка три дворов. Вообще, историческая Волынь, если ее понимать в древнем значении, – это очень большая территория. Строго говоря, это название можно распространить на частный сектор окрестных, послевоенных уже улиц, который плавно, без особых границ переходит в другой район, который носит название «Соминка». Современный горожанин знает как «Соминку» вообще все, что здесь находится – от городка университета до Тверцы. Но наш предок-тверитянин еще век назад ближние к Тверце территории (тогда здесь были огороды и отдельные дома) называл «Волынь».
Местность «Волынь», которая известна по намекам и указаниям на ее храмы в писцовой-дозорной книге Тверского уезда 1550 года и другим документам второй половины XVI столетия - район большой, развивающийся и богатый. Как минимум три храма было в нем, судя по этой книге: Николая чудотворца, «в слободке ловчего пути», тот, который потом назывался Благовещенским, и при котором сформировалось Волынское кладбище XVIII-XX веков. Второй храм был в честь Ильи пророка – и этот храм был настолько важным в городском ландшафте, что весь берег Тверцы от него даже до Отроч монастыря называется «Ильинский берег». И третий храм – Иоанна Милостивого, «в Волынях» (название, прямо отсылающее именно к этой слободе). Все три храма имели земельные владения в уезде, поэтому мы о них и знаем как о существовавших уже в середине XVI века.
Места двух последних храмов точно не известны. Предположим, что Ильинский храм находился на берегу (иначе почему «Ильинский берег»?), хотя где именно – не скажешь. А Ивановский? Не там ли, где позднее находился «убогий дом» и храм, носивший наименование Успенского и вошедший в послевоенную историю Тверской епархии как «Волынская церковь» (теперь это угол проезда Карпинского и улицы Румянцева)? Варварский снос этого храма в 1964 году стал эпохальным событием, одним из многих откровенно безумных действий советской власти в те времена. В итоге этот снос только содействовал росту религиозности. Храм Успения был основан на месте древнего кладбища в 1799 году, прославлен захоронением в нем или близ него знаменитого тверского юродивого XVIII века Макара Горчарова, не закрывался, в отличие от Белой Троицы, действительно никогда, плюс это был последний храм святителя и мученика Фаддея (Успенского).
Он был снесен – верьте или нет, но так – исключительно «из злобы сатанинской». Ничего не удалось построить из его кирпича, а само церковное место занял детский садик, действующий, слава Богу, но расположенный, с точки зрения доставления туда детей, крайне неудобно. Впрочем, место самого храма пусто и, к счастью, не оскверняется ничем. Вот такой он был незадолго до сноса - замечательна огромная икона на стене: святые Михаил и Арсений Тверские молятся за город Тверь. А ведь ни на одном современном храме (сколько их строится в Твери!) в 1990-2000-е ничего подобного так и не появилось.
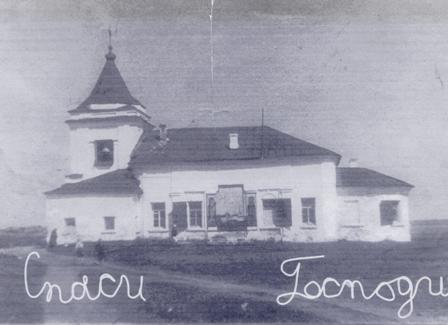
Почему этот храм был Успенский, если древний был Иоанновский? Мы уже говорили, что в слободке Отроч монастыря имелся то ли Богородицерождественский, то ли, скорее, Успенский храм, «что Пречистая круглые двери». Не память ли об этом престоле всплыла, когда в конце XVIII века появилась единоверческая церковь на дальнем краю Заволжского посада? Однако тогда: как, откуда в этой церкви, возникшем на пустом вроде бы месте (храма в честь святого александрийского патриарха не знает уже писцовая книга 1626 года), сохранялись до 1941 года остатки иконостаса начала XVI века с редчайшим подбором деисусных икон (они сейчас в тверской картинной галерее) – «Спас», «Богоматерь», «Иоанн Милостивый» (фрагменты двух последних помещены выше)? Может быть, была часовня на кладбище? Но разве бывает, чтобы двести лет стояла часовня и двести лет в ней пережили древние иконы, дождавшиеся, когда их вновь бережно установят на почетном месте в иконостасе? Возможно ли такое в принципе?
Ныне вместо всего этого многообразия средневековых храмов здесь появился один – преподобного Серафима Саровского. За десять с небольшим лет его жизни с ним случилось уже столько всего, что его эпопея заслуживает отдельной главы нашего проекта. Нельзя сказать, что итог у этой эпопеи благополучный, но храм живет, стал важной достопримечательностью Заволжья, и он, что еще важнее, служит маячком для особо ретивых строителей – здесь кладбище, не троньте.
Пройдемся же по здешним улочкам, сохранившим даже в советские годы свои названия – Огородный переулок, Съезженский, Волынский, Обозный. Даже на памяти последнего поколения, то есть за двадцать-тридцать лет, здесь изменилось слишком многое. Слобода, которую я запомнил в начале 1990-х, казалась местом просто райским: большие участки, ладные, аккуратные домики с разросшимися яблоневыми и вишневыми садами. Домики были, кстати, со всеми бытовыми удобствами. И все здесь сохранялось какое-то особенно веселое и уютное, и впечатление не портилось тем, что было прекрасно известно, как жестоко похозяйничала на этой территории война. Но едва ли десяток уцелевших деревянных домов прекрасно вписались в послевоенную застройку, и нужно было иметь наметанный глаз, чтобы отличить старые домики от построенных в 1940-х гг. Участки давали здесь участникам войны, и не совсем абы кому, а с некоторым блатом, предпочитали награжденных и офицеров. Поэтому и сады здесь: у «черной кости» такая бытовая роскошь как сортовые яблони в 1940-1960-х гг. еще не водилась. (Да и хрущевские налоги сильно подкосили сады у тех, кто ими не особенно дорожил). Признаки изначальной элитности района были в 1990-х гг. очень заметны. И как бы там ни было на самом деле, хотелось думать, что живут в слободе люди добрые, открытые, честные. И я им страшно завидовал: довелось жить в таком месте, где даже просто гулять – приятно.
Как мы уже догадываемся, времена изменились в конце 2000-х, и опять чрезвычайно круто и жестоко. Правда, до самого последнего времени ни одной высотки тут не появлялось. Но появились объекты, благодаря которым этот район, не утратив ни своей планировки, ни – даже – ландшафта, утратил, однако, очень многое, едва ли не все.
Таун хаусы появились в Твери – это можно зафиксировать довольно точно – в 2010 году. Принцип их появления в районе с редкой частной застройкой был убийственно прост и от этого действенен и эффективен. Большие участки сыграли злую шутку с местными обитателями, не видевшими смысла в обработке земли, зато быстро осознавшими преимущества от ее продажи. Если нельзя построить высотные дома (а тогда, по старым градостроительным регламентам, было еще нельзя), строили низкие. Расходы от строительства с лихвой окупались продажей квартир, а «лихва» могла идти на покупку очередного участка, владельцы которого обалдевали от возможности обогатиться. Впрочем, для сопротивлявшихся существовали и существуют и другие методы воздействия – и совсем не демократические. Некоторое время (лет пять, не меньше) дырки в строительном законодательстве давали возможность почти без затруднений строить на обычном огороде натуральный коммунальный дом квартир этак на восемь, одна из которых могла отойти прежнему хозяину (а могла и не отойти), а прочие продавались. Дома строились из откровенно легких материалов, «сэндвич-панелей» и прочего пластика и картона, лишь облицовываясь кирпичом. 2011-2013 годы стали пиком строительства таун хаусов в Твери, но затем, с полным «открытием шлюзов» для строительства высоток где угодно и какой угодно высоты, эта тема пошла на спад. Но именно в Волынской слободе (а также в ближнем Затверечье) их построили особенно много.
Таун хаусы знаменовали окончание очень важного переворота в сознании горожанина, впервые проявившегося в индивидуальном строительстве 1990-2000-х. Земля перестала восприниматься как главное богатство в городском доме на окраине. Она остается при этих домах в виде более или менее больших песочниц-газонов, где (по желанию) можно сажать траву и цветы. Слава Богу, это сейчас модно – поэтому сажают и то, и другое. Но главное назначение земли при таун хаусе – предоставлять ее владельцу беспроблемную возможность парковать свое авто рядом с домом. До 70-80% территории участка используется под застройку. Зачем? Оправданно ли это хоть какой-то экономической необходимостью? Или это затянувшаяся болезненная реакция выросшего в крайней коммунальной тесноте советского человека, которого на несколько поколений испортил «квартирный вопрос»? И можно ли ждать возвращения (через энное количество лет) привычки возделывать родную землю (и тогда дом будет занимать хотя бы не больше половины площади участка)? Нет пока ответов.
Нынешний горожанин одинок, равнодушен и безжалостен. Знает ли он, что за его забором находится одно из знаковых мест Твери – Волынское кладбище? Оно также заслуживает отдельного рассказа. Разоренное и оскверненное, это кладбище до сих пор сохраняет какую-то пронзительную поэтичность, оставаясь настолько подлинным местом, что мне бы не хотелось видеть здесь какую-нибудь реконструкцию, хотя бы и с благими намерениями. Только уборка. Это кладбище - настоящий монумент трагедии XX столетия, монумент самоубийству целого огромного народа, отказавшегося от своей истории, своих предков и, в конечном счете, ежедневной своей практикой отказывающегося от наследственного своего права жить на своей земле.
© Павел Иванов
Продолжение следует...
|
Метки: genius_loci Заволжье таун_хаус |
Для печати
К началу |
|
- "Genius loci". Часть XL. Троицкий приход
- "Genius loci". Часть XXXVIII. Купеческое Заволжье
- "Genius loci". Часть XXXIX. Посад, монастырь и слободки
- "Genius loci". Часть XLI. Осколки и обломки