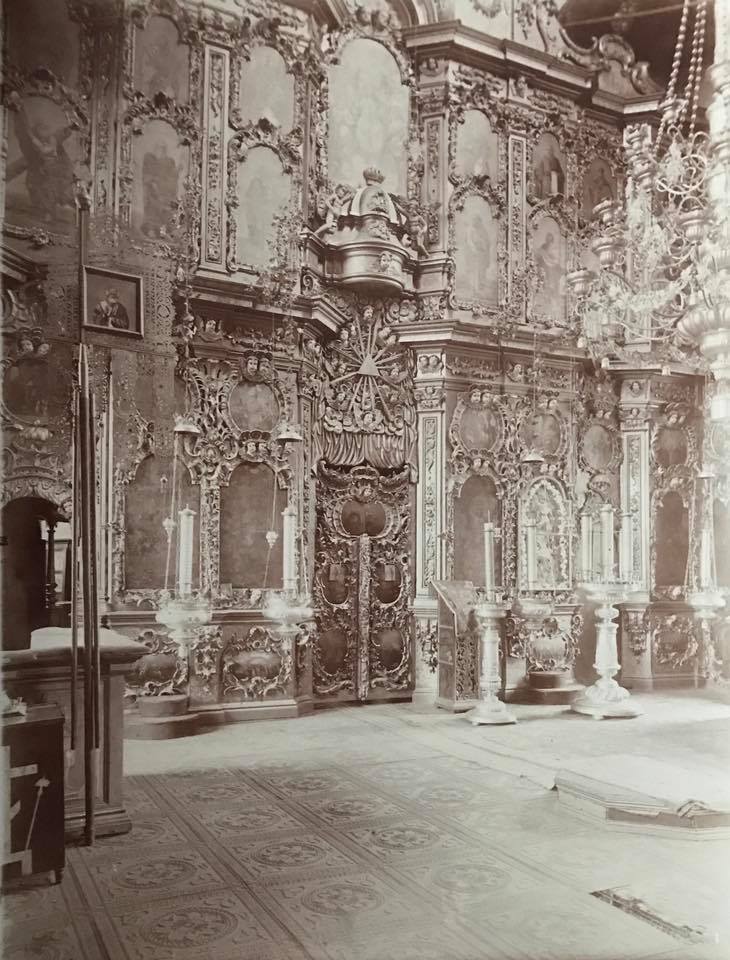2021
Предисловие первое
Надо начать этот текст, а то он начинает меня положительно мучить как неродившийся ребенок. Долго я его вынашивал, откладывал. Но, наконец, уже слишком много всего набралось, надо писать.
Итак, Торопец. Пятьдесят лет назад Артур Адамович Галашевич написал книжечку «Торопец и его окрестности» из так называемой «желтой серии», написал в своем замечательном журналистском стиле, не просто как искусствоведческую штудию, а как книгу-приключение. Поэтому книжка, хотя по излагаемым фактам и устарела, читается до сих пор, до сих пор интернет-сайты полны цитатами из Артура Адамовича, несмотря на все его ошибки. В последний год перед его последним инсультом, когда я с ним толком познакомился (эх, жалко, поздно, поздно), он с удовольствием и некоторой гордостью рассказывал о своих старых похождениях по торопецко-пеновской тайге, которая с тех пор мало изменилась и которая, мне кажется, главная достопримечательность запада Тверской области. Именно она навсегда влюбляет в этот край.
Смешанные леса обрамляют макушку Валдая наподобие диадемы, тянутся от Торопца до Валдая, создавая дикий и одновременно приглашающий к себе ландшафт. Густые ельники перемежаются с чистыми борами, тут и там на взгорках попадаются фрагменты лиственных рощ с включениями клена, ясеня, а то и дуба. Болота лежат как кладези нетронутой земли. Даже привычные осинники и березняки приобретают здесь какое-то особое благородство и красоту. Человека в ландшафте мало – мало деревень. Но при этом везде человек оставил свои следы в виде курганов и городищ, следов заброшенных церквей и усадеб. Природа взяла свое – но как будто с сожалением, без безжалостности и равнодушия, которые везде видны на Русском Севере в заброшенных местах.
О существовании здесь некогда высокой художественной культуры догадываешься, еще даже не попав в Торопец. Догадываешься, замирая в предвкушении сказочного города уже задолго до него, провожая взглядом его беломошники и извилистые песчаные холмы, быстрые речки, мелькающие за деревеньками синие озера. Тут не могло не возникнуть великого искусства. И оно точно тебя встретит!
Как не любить Торопец… Хотя он очевидно не любит всех подряд. Он очень гордая кошка. Он вдали от всех городов и по сути ничей. Осташков, его сосед и родственник, ощутимо тверской; в XVII веке уже он сделал выбор в сторону Твери, туда потянулся своими каменщиками, монахами и иконописцами. А Торопец никуда не потянулся. Отданный сначала Смоленску, потом Пскову, он и к ним не особо прилепился, а уж к Твери и подавно. Порубежный город, никого не признающий из своих соседей, уважающий лишь столицы и им одним служащий, город грубоватых нравов, шального богатства и пышного искусства.
Странный образ: хлынувшие сюда после раздела Речи Посполитой евреи вывозили жемчуг ведрами. И вывезли богатство, которое не особенно-то и берегли потомки торопецких купцов. Не жалели, потому что Торопец был так несметно богат, что казалось – не убудет. Но убыло почти мгновенно. К началу XIX века купеческого Торопца уже не было.
Но оставался еще дворянский Торопец, древний, многолюдный, посконный и богомольный. Его смахнула с культурной карты отмена крепостного права. И задолго до 1917 года начали пустеть и рушиться богатые прежде усадьбы, чернеть и ветшать чудные иконостасы.
Последняя история Торопца, история двадцатого века, ничего особенно нового не внесла в его медленное угасание. Городу несказанно повезло – он мало пострадал в пламени войны. Но к тому времени примерно три четверти его художественных сокровищ было уничтожено. Уже немцы не увидели букета его лучших храмов на центральной площади, уже пустыми глазницами киотов зияли его еще стоявшие иконостасы. После войны частью были разобраны, а частью просто рухнули стены ветхих сельских церквей, потому что без бережения они уже сами стоять не могли. А беречь их стало совсем некому.
Так Торопец и остался – будто уснувший среди своей волшебной природы. Баю-бай, баю-бай. Ничего не останется, даже если кажется, что можно собрать крошки. Ангелы улетели на свои деревянные небеса, поросли травой погосты, забыты памятники некогда гордых дворян, под страхом проклятия завещавших помнить их вечно.
И теперь, идя по лесной дороге, слушаешь звуки этой вечной колыбельной природы, что всегда напоминает о краткости и суете человеческой жизни. И, как ни странно, от нее и успокаиваешься. Она поет о том, что гармония и красота – вечны, и, как знать, что может еще создать человек?
Предисловие второе
Несколько лет назад Татьяна Подстаницкая сделала группе, условно говоря, «друзей Торопца» совершенно сказочный подарок: отсканированные в высоком разрешении негативы экспедиции в Торопецкий уезд 1912 года, Николая Николаевича Соболева и Николая Дмитриевича Бартрама. Эти люди, как выясняется, были единственными учеными, кто запечатлел торопецкую красоту буквально накануне ее гибели. Кое-какие из результатов той экспедиции видел Галашевич, но и он не подозревал, насколько высоко стояло искусство фотографии в 1912 года, позволявшее рассматривать на каждом (!) оригинальном снимке самые мелкие детали.
В общем, примерно двести фотографий произвели не то, что фурор. Это был взрыв маленькой бомбы. Стало ясно, что за двадцатый век погибли несколько десятков художественных ансамблей XVII-XVIII вв., каждый из которых был сопоставим с очень хорошими, если не лучшими европейскими. И никто, как водится, не заметил.
История русского искусства напоминает дерево, у которого отрублено столько ветвей, что иногда непонятно, а, вообще, что это было. Мы едем изучать, например, елизаветинское барокко на дальнюю периферию, в какую-нибудь Старочеркасскую или Великий Устюг, стыдливо не признаваясь самим себе, что нам нечего предъявить в Москве или Петербурге из того искусства, которым буквально кипели эти города. И ладно еще Москва и Петербург. Кое-где под руинами в столицах еще уцелели, пусть и заставленные поздними ширмами, много раз реставрированные, но великие памятники. Провинция совершенно их лишена. По музеям остались крошки, значение которых понятно не всем не-специалистам. А вот так чтобы оно стояло - и ах! Такого почти нет. Под Торопцем не так давно угробили такое последнее.
Читателям остается поверить мне на слово. Но первое знакомство с торопецким барокко состоялось у меня задолго до того, как я впервые попал в Торопец, и довольно далеко от Торопца.
В конце 1990-х годов я оказался в компании одной тверской журналистки в Пеновском районе, где служил знаменитый тогда отец Михаил Лебедик. Знаменит он был тем, что героически служил в какой-то дикой и заброшенной церкви, и вот туда мы поехали.
Приехали мы осенью под вечер, перетерпев показавшуюся жутко долгой грунтовую дорогу, храм увидели уже в сумерках. Он был большой и очень ветхий, если коротко описать первое впечатление. Но внутри нас встретило нечто невероятное. Казалось, время остановилось пятьдесят, а то и сто лет назад, мы – в искусствоведческой экспедиции, и выступаем в роли первооткрывателей, ибо до нас тут никого не было.
На самом деле все было уже украдено до нас, а кое-что и возвращено, но тогда это было не важно.
Внутри тесной, старинной церкви, напоминающий альков барыни времен то ли Анны, то ли Елизаветы, стояло нечто с витыми колоннами и вот теми самыми ангелами из книжки Галашевича, которые отовсюду выглядывали, словно спугнутые воробьи. Какие-то из них свешивали ноги со сводов, другие глядели с иконостаса. Само пространство напоминало огромную рухлядную, и безумное обилие пыли этот эффект только усиливало. Казалось, со времени ухода последнего священника тут не изменилось ничего, и никто не убирался. Ветхие полинялые иконы, двери на кованых петлях, скрипевшие еще как при господах, старинные аналои с окладами от уже исчезнувших икон, хоругви и даже выносные слюдяные фонари восемнадцатого века. И все это было странных плотных охристого, голубого, белого, зеленого и розового цветов.
Никогда в жизни я не видел ничего подобного.
Гораздо позже, благодаря публикации архива Н.Н. Соболева и Н.Д. Бартрама, стало понятно, что такого добра под Торопцем сто лет назад было еще много. А до них Константин Случевский, который увидел в 1887 году (до пожара) храм в Пожне, медленно поднимал с пола челюсть, захлебываясь от восторга:
«Иконостас ее, многоярусный, липовый… в полном смысле слова чудо искусства… Обильно увешанный образами и медальонами, он может поспорить с лучшими резными иконостасами наших богатейших монастырей и лавр. Кто его делал? Предание говорит, что какие-то иностранцы, может быть пленные. Липовое дерево, из которого вырезаны все эти бесчисленные гроздья, листья, желуди, цветы, оставлено натуральным, и рисунка не сбивает ни позолота, ни окраска. Работа была так велика и трудна, что напоминает известные китайские образчики токарного и резного искусства, где в кубике имеется кубик, а в этом последнем еще третий, самый маленький; во многих местах иконостаса приходится видеть ветку или стебелек, вырезанный полным рельефом, с тем, чтобы под ними виднелся другой какой-нибудь цветок, в свою очередь весь, до деталей, отделанный…».
Случевский - это так для понимания - был жутким снобом и терпеть не мог искусство XVIII века. Его тонкий эстетский нос воротило от дивного барокко Великого Устюга, он остался равнодушным перед пышной Тотьмой, он вздыхал по поводу усыхающего в его время искусства Русского Севера. Лишь в Сольвычегодске в Благовещенском и Введенском соборах он как-то встрепенулся перед величием памятников Строгановых.
И вот такая реакция в Пожне!
Церковь эта была подожжена изнутри осенью 1911 года, то ли чтобы скрыть следы кражи, то ли из баловства, то ли от случайной лампадки – и выгорела вся.
От иконостаса в Пожне не осталось даже фотографий…
Как и от десятков других.
Мне досталось увидеть последний подобный храм.
Излишне говорить, что спустя несколько лет он был зареставрирован так, что теперь туристу в Отолове (а именно так называется место в Пеновском районе, где стоял последний торопецкий интерьер) делать совершенно нечего. Снаружи там нитрид титана, а внутри - современное «а-ля Софрино», от старины осталась разве что лепнина. Иконостас в 2010-х годах превратился в жалкое подобие себя самого (иконы все написаны заново в самом примитивном стиле «под Дионисия»). В значительной части обновлена и заменена штукатурка.
В общем, не забудем, не простим.
Читатель может подумать после этого длинного лирического введения, что вообще теперь незачем заниматься Торопцем. Но я спешу его уверить, что это не так.
Создано было так много, что все погибнуть без следа просто не могло. Увы, уже нет целых памятников.
Что же делать! Нам надо учиться смотреть в осколки зеркал. Это наш маленький шанс воссоздать когда-нибудь хоть что-то из утраченного былого. Будем учиться и верить, что ренессансы свойственны всякой культуре, кроме разве мертвой.
Глава 1. Истоки. Туфановы
Мы ничего не знаем о торопецком зодчестве и иконописании до середины XVII века, поэтому гадать о них совершенно бесполезно. Но когда город залечил свои раны от Смутного времени и начал бурно расти во второй четверти XVII века, одновременно с этим бурно начали строиться и церкви.
В Торопце насчитывалось в лучшие времена примерно двадцать церквей и три монастыря – гораздо меньше, чем в замосковных городах. Но зато здесь сильнее, чем в Подмосковье, сказывалась западнорусская привычка организовывать вокруг церквей братства – сплоченные, очень древние по своему происхождению коллективы со своими привычками и порядками, среди которых обязанность ходить на службу была даже не самой главной. Наблюдая за торопецким населением по переписям и ревизиям, удивляешься, до чего тесно переплетались в городе купечество и духовенство. Купец мог рукоположиться, потом стать «черным» (овдоветь), но при этом продолжать владеть крепостными служителями. Священник (если он рукополагался по выбору прихода) сохранял все свои старые привычки, по сути продолжал оставаться купцом, лишь юридически выходя из состава тяглого посадского населения. До конца XVIII века в Торопце явно сохранялись приходские выборы причта – когда в иных местах об этом уже и думать забыли. Вот поэтому все священнические фамилии Торопца – Туфановы, Щукины, Семевские, Побойнины и, конечно, Белавины – это фамилии купеческие, посадские, выдававшие из своей среды лиц, которым не по статусу, а по интересу больше остальных нравилось быть в храме Божием. Они и породили множество любопытных, очень живых священников позднейшего времени и величайшего святителя двадцатого века – патриарха Тихона.
Иконописец был в Торопце фигурой странной. Мы ожидаем видеть в старом русском иконописце такого маэстро, который в своей студии, молясь, постясь и слушая радио Радонеж (как шутили двадцать лет назад семинаристы), короче, отстраняясь от суеты, предавался благочестивому иконному творчеству. Оценивая количество храмов Торопца, мы ожидаем увидеть тут немалые стройные ряды бородатых и мудрых мастеров, денно-нощно выполняющих купеческие и монастырские заказы.
В действительности большинство торопецких иконописцев было людьми, очень тесно интегрированными в жизнь города, нравы которого в XVII-XVIII веках были ого-го (по нашим понятиям). И наилучшим способом сохранить при благочестиво-постном занятии какую-то совесть и приемлемые средства к существованию было для них принятие священнического или диаконского сана. Это происходило не сразу и не обязательно, но довольно часто и означало отсутствие этих лиц с этого момента в переписях – и в, частности, в тех, где указывалось занятие человека. Сколько точно священников и диаконов подрабатывали в Торопце иконным ремеслом, мы не знаем, а переписи об этом умалчивают.
Торопецкие переписные книги – удивительный случай – изданы задолго до революции в 1888 году. Они позволяют нам заглянуть в мир торопецкого посада, не прибегая к сложной работе по езде в архив и разбору плохо читаемой скорописи. Книга эта называется «Материалы для истории города XVII и XVIII столетий» и сама по себе показательна. На средства московских купцов Аксеновых и Боткиных, родом торопчан, труд подготовили к печати известные русские историки Иннокентий Николаевич Николев и Николай Александрович Найденов. Цитировать я буду эту книгу постоянно и обозначать ее буду, как принято в научных публикациях «Николев, Найденов. С. …» - и цитируемая страница. Примерно то же значение для нашего исследования имеет обобщающий труд протоиерея Владимира Щукина по торопецким храмам, вышедший в 1906 году. Ссылки я буду давать на «Псковские епархиальные ведомости» за этот год, где этот труд и был опубликован. У Щукина есть еще труды о храмах Торопца, но более частные, они нам потребуются меньше. Ну, и, конечно, главным источником, благодаря которому вообще можно говорить о художественном мире Торопца не как об абстракции, являются записные книжки Николая Николаевича Соболева. Пока они не изданы, читателям остается верить моим цитатам. Но издать их стоит – это важное дополнение к фотографиям, дающим окошко в ту исчезнувшую Россию. В остальном, я не буду соблюдать все строгие правила научной публикации – ибо я хотел бы, чтобы как можно больше людей, просто любящих русское искусство и, конкретно, Торопец, могли все это без затруднений читать.
Почти наверняка можно сказать, что в Торопце в XVIII столетии одномоментно работали три-четыре мастерские – не больше (правда, неизвестно, сколько в них в каждой насчитывалось человек). Больше, как ни странно, и не требовалось, а экспорта иконописцев, как это было в Осташкове, в Торопце не сложилось. Если храмы строились массово, а иконописцев не хватало, то приделы могли стоять без отделки десятилетиями. Это никого не беспокоило.
Ранние храмы Торопца напоминают постройки Москвы своего времени. Из камня здесь начали строить довольно рано. Уже в XVII веке каменными были Никольский (1666) и Корсунский (1675) соборы, а затем к ним прибавились храмы Воскресенский (1690-е), Казанский (1698), Преображенский (1706), Предтеченский (1704), Ильинский, Успенский, Архангельский, Пятницкий (все в основе – конца XVII - начала XVIII вв.), собор Небина монастыря (1717) – плюс еще целая россыпь каменных храмов в уезде (в Кудине (1705), Пожне (1709-1714), Речанах (1706), Чистом (1720), Троицком (до 1740) и так далее). Да кроме того всюду по селам создавались церкви деревянные. Эти ранние храмы уже не просто московские постройки, занесенные в провинцию. Они тяжелы по пропорциям, их справедливо сравнивают с псковскими храмами, будто вылепленными рукой, они исполнены часто неискусными строителями, но зато их фасады исключительно декоративны, их наличники богато украшены тонкой резьбой.
Эти храмы обильно украшались иконами и иконостасами, от которых уже кое-что сохранилось.
Самая ранняя сохранившаяся торопецкая икона (не считая, конечно, Корсунского чудотворного образа) - «Дмитрий Солунский в житии», подписная, датированная, «труд многогрешного изографа Григория Туфанова», (Щукин. С. 547) и другие в нижнем ряду Благовещенской церкви. Псковский музей датирует эту икону (удивительно, но она уцелела) 1660 годом, Щукин – 1671-м. Икона была увезена перед Первой Мировой войной в Псков и хранится там, пережив, конечно, множество приключений. Она до сих пор под записями, хотя понятно, что это выдающееся произведение.
Торопец не гремел на всю Русь своими иконописцами, их не вызывали в Москву, возможно, поэтому иконописное дело не было здесь массовым. «Казенный иконописец» в 1680 году в Торопце числится всего один – именно Григорий Туфанов (Николев, Найденов. С. 209), мастер «Дмитрия Солунского».
У упомянутого Григория Туфанова были два сына – Георгий (Григорий?) и Лаврентий. От них-то сохранилось больше икон, чем от всех остальных. Точнее, даже не от них, а от второго из братьев – Лаврентия. Целых девять икон пока известно всего, из них Лаврентия - шесть.
Биография его, с одно стороны, типична, а с другой – это такой закрученный сюжет, в котором где-то судьба влечет, где-то тащит, а где вообще непонятно что.
В «Словаре русских иконописцев», за вычетом «искусствоведческой воды» и ссылок, вот такой общий список, что про него известно:
«В Новгороде в церкви Спаса на Ильине улице находилась икона Благовещения с надписью: «7206 [1697–1698] образ сии писали диакон Григорий и Лаврентий Григорьевы дети Туфиновы Торопченя».
В 1702–1705 гг. Лаврентий Туфанов по царскому указу развозит из Оружейной палаты клейменую бумагу по городам: в Торопец, Великие Луки, Старую Руссу, в Заволочье и др.
В 1704–1705 гг. писал иконы для Преображенского собора Копорской крепости по заказу князя А. Д. Меншикова. На иконе Богоматери Тихвинской в местном ряду, где на поле был изображен сам А. Д. Меншиков, была надпись: «1704 г. образ сей Тихвинския Пресвятыя Богородицы писан по приказанию генерал-губернатора князя Александра Даниловича Меншикова, а написал торопецкий купец Лаврентий Туфанов». Подпись Лаврентия Туфанова была также на других иконах местного ряда: «Петр и Павел», «Архидьякон Лаврентий», «Преображение», «Александр Невский», «Алексей человек Божий», «Архидьякон Стефан». На одной из них была надпись: «1705 г. писал торопецкой крепостной избы подъячий Лаврентий Туфанов».
В 1705 г. по приказу губернатора А. Д. Меньшикова «за рукою» коменданта г. Копорья Римского-Корсакова Лаврентий Туфанов едет из Копорья в Москву для приобретения материалов для иконописания. В Торопце подвергается притеснениям со стороны торопецкого коменданта Алексеева (Челобитная Лаврентия Туфанова от 23 сентября 1706 г.)
В 1715 г. написал икону, которая находилась в Спасо-Всеградской церкви г. Вологды.
В 1717 г. им была написана икона Богоматери Тихвинской, которая находилась в нижнем храме Николо-Морского собора в Санкт-Петербурге. На ней была надпись: «Изображение и мера подлиннаго чудотворнаго образа Одигитрии Тихвинской. Образ сей писан 1717 г., писал Лаврентий Туфанов». Об иконе известно, что она писалась не для этого собора, а была кем-то принесена туда до 1802 г.
В 1718 г. работал на жаловании в Кирилло-Белозерском монастыре. В 1730 г. пишет в монастырь большую партию икон преп. Кирилла: «…В городе на Беле озере у иконописца Лаврентия Туфанова взял я, нижайший, оставших по подряду написанных св. образов чудотворца Кирила белоезерского восемь и достальные деньги по рощету за оные образа ему… 2 рубли 50 копеек отдал… Образа послал в Кирилов монастырь с конюхом… Подряжен был писать 30 образов преподобного Кирила половину на золоте, а другую — на красках»
В эти же годы работает в Усть-Шехонском монастыре. В Троицкой церкви монастыря справа от царских врат была икона «Св. Троица», слева – «Богоматерь Тихвинская» с клеймами сказания, на которой была надпись: «1730 году написан образ сий в Троицком монастыре усть Шексны при игумене Иакове, а при наместнике Михие, з братиею. Образ сий писал Лаврентий Туфанов».
Из этого изобилия сохранились шесть произведений:
1. «Спас Вседержитель». 1692 г. ГРМ. Инв. ДРЖ 960. 30,8х26,5 см. Пост. в 1913 г. из колл. Н. П. Лихачева. Подпись белилами по нижнему полю: «Лета 7200 (1692) го году написал сий образ иконописец Лаврентий Григорьгиев сын Туфонов торопченин»
2. «Похвала Богоматери - Прежде Рождества Дева». ГРМ. Инв. ДРЖ 2198. 32,3х27,1 см. Из Кирилло-Новоезерского монастыря. Подпись на нижнем поле: «1700-го сей образ писал Лаврентий Туфанов».
3. «Богоматерь Казанская». Москва, частная коллекция.
4. «Николай Чудотворец». 1716 г. КБМЗ (Кирилло-Белозерский музей-заповедник). Инв. ДЖ 34. На окладе выгравирована надпись: «(1716) образ сий писал Лаврентий Туфанов».
5. «Проповедь Иоанна Крестителя». КБМЗ. Инв. Дж 124. На нижнем поле надпись: «…ре…тий Туфанов»
6. «Богоматерь Казанская». 1717 г. Тотемский краеведческий музей. Инв. 9586. 32 х 28,2 см. Из Сретенской церкви г. Тотьмы. Надпись: «717-го образ сий писал Лаврентий Т.» Икона не упоминается среди старых икон этой церкви и попала в Тотьму, скорее всего, вместе с утварью деревянной церкви Усть-Стрелецкой слободы, вотчины вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря или каким-то частным вкладом.
Ну и что? Скажете, список как список? Ну, ушел мастер за заказами на Север, ну, бывало так в те времена. Вон, Кирилл-Корнилий Уланов в эти годы тоже ушел из Москвы скитаться, а был и вовсе царский мастер. Если не знать Туфановых, то может показаться, что и здесь ничего интересного. Но мы-то знаем.
Туфановых было в Торопце довольно много. Однако с середины XVII круто в гору пошел род Гавриила Туфанова, купца, в 1678 году имевшего двух сыновей – Ганьку и Гришку. Судьбы у братьев сложились, мягко говоря, по-разному. Гришка – это папа Лаврентия и Георгия-Григория. А вот Ганька превратился со временем во всемогущего бургомистра Гаврилу Гавриловича Туфанова, который в 1706 году, заручившись поддержкой Петра I, раздавил нелюбимого им торопецкого коменданта Антона Алексеева (последний, видимо, наложил на себя руки, когда его вызвали в Преображенский приказ – историю эту рассказывает Петр Иродионов). Это был не первый случай, когда Туфановы раздавили конкурента в торопецкой власти: в 1689 году Гавриил и Григорий Туфановы таким же образом уничтожили местного Гракха, стоявшего за «середних и молодших людей» – выборного земского старосту Максима Заозерского. Неизвестно, кстати, успел ли тот бежать или, как потом Алексеев, «скоропостижно помер».
Гавриил Туфанов ездил торговать за рубеж, вывозил туда ценные и (по мнению некоторых) запрещенные товары. Человеком был крутым и в гневе страшным. Сам мог ударить «дубьем смертно» не понравившегося ему представителя местной власти, но обычно предпочитал убирать неугодных, прикрываясь братом и племянниками. Как бы его родственники, а не он, были чем-то недовольны. Интересно, что они, иконописцы, по этому поводу думали?
Верхом игры Гавриила Туфанова стало использование его собственной жены. Весной 1706 года, когда в Торопец заявился Петр I (принимал внезапно нагрянувшего царя Туфанов), пред очами самодержца была выведена жена Гаврилы Туфанова, одетая «в немецкое платье». Петр от души похохотал над тем, как неумело торопецкая купчиха Марья Туфанова (ей, к моменту визита царя примерно пятьдесят лет, то есть дородная еще такая баба) в этом платье, что называется, «ступала». (Николев, Найденов. С. 24)
Похохотал царь – но потом эту историю не забыл. И Туфанову доверял. Ну, а тот уже пользовался этим доверием по-своему.
В общем, Лаврентий Григорьевич Туфанов, хотя вроде бы должен был радоваться, находясь в партии победителей, после 1706 года покидает Торопец.
В самом Торопце его с тех пор похоронили - задолго до смерти. С 1710-х годов он исчезает даже из поля зрения собственной жены, которая числилась с тех пор по переписям вдовой (при живом-то муже, которого носило по вологодским землям) и сдавала свой дом совсем уж бедноте (а может, специально приняла мальчика в дом, чтобы иметь какую-нибудь поддержку – мы не знаем). Пропал ли он Лаврентий Туфанов для торопчан на самом деле, или он кулуарно договорился с дядей о своих дальнейших планах, и том, чтобы тот сделал все для того, чтобы ни одна живая душа о пропавшем иконописце в радиусе двухсот верст не вспомнила? Может быть и второе. Туфановы стали наследственными бургомистрами Торопца, в 1720-х годах Гаврила Гаврилович мог уже не беспокоиться, что кто-то пикнет против его мнения.
А что думала жена Лаврентия... Может, от нее-то он и сбежал? И почему у них детей не было?
Вот единственное, что имеется в переписях об иконописцах Туфановых вообще, и, в частности, о Лаврентии (в 1723-1724 гг.):
«˂Торопчане˃ живущие в чужих дворах и местах…
Юрья Аксенов сын Трефильев, 16, двор и место бывшего подъячего Лаврентьевской жены Туфанова вдовы Дарьи Ларионовой дочери. Живет безоброчно питается черною работою, в оклад не обложен и податей никаких не платит за малолетством и за скудостью. Живет в Седельникове переулке в приходе церкви Николая чудотворца…». (Николев, Найденов. С. 114).
Локализация места жительства Лаврентия Туфанова - это любопытно, хотя, увы, не позволяет ткнуть пальцем в карту и поставить какой-нибудь памятный знак. Мол, «здесь жил». Все Туфановы были прихожанами Никольской церкви: и великий и ужасный Гаврила Гаврилович Туфанов, и его самые скромные захребетники и подсоседники. Где-то рядом с церковью были Седельников и Костин переулки, где они жили, но где это именно – нужно еще разбираться.
Сегодняшняя Никольская церковь забыла Гавриила Туфанова. Это нарядный, до некоторого даже лоска отремонтированный снаружи храм, скорее, призванный напоминать о московских истоках торопецкого зодчества. Очень примечательно необычайно раннее завершение его восьмериком (скорее всего, что это результат достройки 1697 года, но все равно – очень рано), интересно изразцовое убранство. Но это – только внешне. В интерьере живопись примерно 1802 года, уже другой эпохи.
Но кое-что осталось. Высоко, под самым куполом, уцелел переживший немцев и наших, всех вандалов и реставраторов старинный крест, единственный оставшийся от роскошного резного иконостаса, судя по всему, 1722 года, и, значит, установленного на средства Туфановых и до революции лучшего из ранних иконостасов Торопца. Из всех больших иконостасов Торопца он – старейший и впервые украшенный скульптурой.
Иконостас сфотографирован. К сожалению, густая потемневшая олифа икон не поддалась даже длинной выдержке фотоаппарата Николая Бартрама, и только черные тени святых видны среди пышной, «флемской» резьбы колонок и тумб. Одну икону – «Троицу», прекрасной работы конца XVII или начала XVIII века – Бартрам сфотографировал отдельно. Может быть, ее спасли в 1930-х годах, и она где-то живет в запасниках? Кто знает, может быть уцелели и какие-то другие фрагменты этого ансамбля среди неатрибутированных произведений столичных и частных собраний. Хочется верить...
А на месте только черный, будто закопченный Христос глядит со своей вышины, как глядел он когда-то и на седого могучего старца, не боявшегося царей и вельмож. Боялся ли Туфанов Бога? Жалел ли о жизни, знал ли за собой грехи? Или считал, что именно так должен был вести себя настоящий купец, торопчанин и истинный хозяин этого города?
Молча смотрит Христос.
…Пока Лаврентий Туфанов с котомкой за плечами топал со случайными обозами из Вологды в Кириллов, вряд ли подозревая, что идет путем шедшего тут за двести лет до него Дионисия, кто-то же работал в Торопце? Было же кому выполнять обычные рядовые заказы?
Собственно, брат у него остался. Три его подписные работы сохранились:
1. Георгий Терентьев Зиновьев, Георгий Туфанов. «Царь царем». 1694 г. ГТГ. Инв. 24390. 144х77 см. Пост. из фонда МОНО в 1930 г.
На фоне, внизу слева, подпись: «202 (1694) году писал сий образ зограф Георгий Терентиев сын Зиновиев, учеником Георгием Торопченином».
2. «Спас Нерукотворный». 1698 г. ЯХМ. Инв. 13 И 1349. 54,5х46 см.
Подпись: «206 году писал сий образ изограф диякон Георгий Туфанов».
3. «Спас Нерукотворный». 1717 г. Собрание С.Н. Оскерко в Москве. 58 х 44,5 см. Надпись на фоне в нижних углах: «1717 году писал сий образ диакон [Ге]оргий Туфанов».
Помимо оставшегося «на хозяйстве» Георгия Туфанова, принявшего в 1690-х годах сан диакона и, как видим, учившегося несколько лет у самого Георгия Зиновьева в Москве (такая «командировка» стоила денег!), в первые десятилетия XVIII века в городе еще гремел архимандрит Дионисий «со товарищи», писавший известные только по описаниям и фотографиям иконы для Небина монастыря.
Одна из них даже сфотографирована. Это нижний ряд иконостаса Троицкого собора Небина монастыря.
Фотография Н.Н. Бартрама скажет о ней лучше описаний. Икона «Иоанн Предтеча ангел пустыни» с авторской подписью была там не единственной. Но увы, фотографий многих из них нет даже на общих планах. Видел эти иконы протоиерей Владимир Щукин, оставивший о них такой отзыв:
«В средней части ˂церкви˃ выделяются своей оригинальной живописью иконы Страданий Господа и изображение Страшного Суда. Почти все иконы в этой церкви писаны самими монахами в начале прошлого столетия; почему многие из них отличатся своей безыскусственностью и имеют следующую надпись «лета 1718 года написал сей образ архимандрит Дионисий с товарищи». (Щукин В.Д. Троицкий третьеклассный мужеский монастырь в городе Торопце Псковской епархии. СПб. 1896. С. 8-9)
Вторая из известных крупных работ этого мастера существовала в погосте Пятиусове под Торопцем, где в каменном храме 1766 года хранилась часть утвари из старого деревянного храма. Записные книжки Соболева: «1705 году месяца маия, - написано было на иконе Святой Троицы, - писан сей образ игуменом Дионисием против чудотворцева образа, что в монастыре преподобного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца по прошению Артемия Иванова сына Челищева». Икона Богоматери в этом же иконостасе имела надпись: «1705 года сия икона изображение истинное с чудотворного образа Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии что в соборе стоит в Москве».
И, наконец, на иконе Спасителя: «Писал сей образ 1705 года игумен Дионисий да диакон Георгий по прошению стольника Артемья Иванова сына Челищева».
Дионисий в 1705 году был еще игуменом, а далее стал архимандритом, хотя формально монастырь уже с 1670 года управлялся архимандритами. Интересно, не был ли и Дионисий кем-то из Туфановых или их родственников? Во всяком случае, сомневаться в его помощнике «диаконе Георгие» как том самом знаменитом иконописце и племяннике торопецкого бургомистра оснований никаких нет.
Мы не знаем, диаконом какого храма был Георгий Туфанов – может быть, и Небина монастыря. Не знаем, как стал одним из «сотоварищей» игумена Дионисия. Не знаем, почему в 1697 году в Новгороде в Спасе на Ильине он (?) записан Григорием Туфановым, а в 1694 году и затем и всегда пишется Георгием. Возможно, по ошибке.
Вопрос об этом стоит так потому, что известен еще один Туфанов - диакон Петр Григорьев Туфанов, который писал в 1750 году иконы для Ильинской церкви в Торопце (Щукин. С. 455). Иконы этого Петра Туфанова не сохранились (как и Ильинская церковь). Кто этот Петр и сколько ему было лет к 1750 году, в открытых источниках я не нашел. Может быть это последний из сыновей Григория Туфанова-отца. В таком случае, этот Петр Туфанов в 1750 году уже был немолодым человеком, в массовом церковном украшательстве после пожара 1758 года он не участвовал.
Из «сотоварищей» архимандрита Дионисия известен (из записей Соболева) по имени еще один – «черный диакон Алексий Богоявленский». Богоявленский - это не фамилия (таковых в ту пору у духовенства еще не было), а указание на место его служения. Богоявленский храм тогда был еще деревянным и стоял в крепости, будучи «осадным» храмом Небина монастыря на его подворье.
В связи с утратой раннего монастырского архива проверить многие факты сложно. Но, как ни странно, «черного диакона» Алексия вычислить можно, анализируя изменение состава посадского населения. В Торопце, как выясняется, в петровские времена было всего несколько человек, кроме Туфановых, кто писал в те годы иконы. В частности, было одно семейство, где иконописное ремесло передавалось по наследству и даже фамилия у них была – Иконниковы (или, в разговорном варианте – Аконников).
Так, в 1710 перепись указывает их состав и занятие: «Алексей Иванов сын Аконников 30 лет, отцу ево Ивану 80, матери Аксинье 60, брат ево Иван 23, сестра Марфа 18, промысел у него иконописец». (Николев, Найденов. С. 35)
Это, в отличие от Туфановых, были люди бедные. У Алексея Иванова, кажется, не было жены (либо она умерла), так что его переход в духовное сословие сопровождался принятие статуса «черный». Другого в Торопце «черного диакона Алексия» просто не было. Из посадского населения он, таким образом, вышел.
Но брат его остался в посаде, впрочем, продолжая терпеть нужду и бедность:
«˂Торопчане˃ написанные в 1710 году бездворные и кормящиеся Христовым именем, а ныне своих дворов купленных и мест не имеют, а именно:
…Иван Иванов сына Иконников, 43, двор и место, в котором он живет, Торопецкого салдата Ивана Афанасьева сына Лутонина, из найму по 20 алтын 2 д. в год, имеет мастерство иконного писания… живет на горке, в приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы. Жена ево Акулина Никифорова дочь». (Николев, Найденов. С. 99)
В 1763 году из этого семейства будет жив его младший сын Максим Иванов сын Иконников, 30 лет с малолетними сыновьями (Николев, Найденов. С. 184). Неизвестно его ремесло, но, скорее всего, он тоже был иконописец.
От их работ не осталось ничего, даже фотографий.
Потемневшие древние иконы с потрескавшимися левкасами, к сожалению, плохо поддавались черно-белой фотосъемке. Бартрам пытался. В одном из сельских торопецких храмов (в погосте Пожоги) он сфотографировал такой «Страшный Суд», скорее всего, начала XVIII века (основа уже по гравюре, как можно рассмотреть). Подобный был и в Небине монастыре, очевидно, великолепный и интересный многими нетипичными, а то и прямо фольклорными иконографическими деталями. Но матовая олифа не позволила сделать качественных изображений.
Иконы – и небинская, и эта – не сохранились…
Торопец преподносит нам еще один сюрприз, когда мы хотим разобраться с его мастерами. Дело в том, что иконописцы, как видим, в нем были, хоть и немного, а вот строителей своих в городе не было. Несколько раз пересматривал я список посадского населения – но нету их.
Сужу по 1723 году, но ведь потом положение сильно не изменилось. Купец в каменщики не переквалифицируется, а весь город состоял именно из купцов и сравнительно небольшой прослойки посадских мастеровых самых необходимых профессий – портных, сапожников; с полдюжины было семейств кузнецов. Были в 1723 году в Торопце рыболовы. Много кожевников – и над Торопцем в эти годы разносился, скорее, запах кож, чем запах рыбы (иные купцы держали целые кожевенные заводы).
Из творческих профессий отмечены кроме иконописцев как минимум пять семейств серебренников. Серебренниками город славен; церковная утварь изготавливается до конца столетия в Торопце великолепная.
Но не было ни одного (!) профессионального каменщика. И это не ошибка составителей переписи. Дело обстояло именно так – городского цеха каменщиков здесь не было, и это видно из того, что построено в городе.
Главным аргументом, что в Торопце не было городских строителей, служит то обстоятельство, что в Торопце не появилось «образцового здания», которое затем сто лет все копировали и хотели повторить. Хотя здесь были и каменный собор с чудотворной святыней, и собор уважаемого Небина монастыря, но в середине XVIII века бурное новое строительство в городе никак или почти никак на них не ориентировалось.
Кроме того, как показывают наблюдения в разных городах России, если город порождал своих строителей, строительную деятельность в нем можно сравнить с кругами на воде: чем дальше в уезд, тем она слабее и хуже. Но качество построек в Торопецком уезде совсем не таково. По мере удаления от Торопца оно не ниже, а часто даже выше, чем в городе. Строительство в уезде ведется с конца XVII века с такой же интенсивностью, как и в городе, без привычного для городов с «городскими строителями» опоздания на десятилетие-другое. Такие постройки, как Псовец, Песно, Пятиусово, Отолово не встречаются в виде «улучшенных оригиналов» в Торопце. Самые лучшие и типичные торопецкие церкви 3 четверти XVIII века «по образцу храма усадьбы Знаменское» в городе и уезде одинаковые. Иконостасная резьба и лепнина в храмах уезда в целом не хуже, а то и лучше, оригинальнее и разнообразнее, чем в городе.
Наблюдение об отсутствии многих мастеров в Торопце справедливо относительно не только каменщиков. «Кафлинные мастера» (изразечники) в Торопце, по документам 1720-х годов, - только одна семья: Семен Петров сын Байбаков, 25 лет с отцом Петром Юрьевым Байбаковым 65 лет. Но они не коренные посадские люди, получившие такое ремесло от своих предков – это отставные солдаты, записанные в 1724-1726 годах в торопецкий посад (Николев, Найденов. С. 130).
Изразцы как раз и появляются в Торопце в это время на церквях. И потом их больше не будет. Случайность ли?
Но если в Торопце не было своих каменщиков, то кто строил в городе? Ну, во-первых, имелись плотники (в это время это специалисты, из среды которых выходили и каменщики), но это тоже пришлый народ: приписанные по указам 1720-х годов в посад отставные солдаты и их дети, люди, не входившие изначально в число посадских. Их немного. Григорий Григорьев Манушкин, 35 лет, у него сын Козьма 2 лет, Иван Васильев Лаптев, 60 лет, Иван Фомин Муравьев, 60 лет, Андрей Тимофеев сын Пестинский, 65, Степан Степанов сын Шишилов, 80. (Николев, Найденов. С. 129-130). Понятно, большинство из них сами они уже не работали. Но кто-то и работал, обучая учеников. Может быть из среды этих учеников и сформировалась какая-то из артелей каменщиков, работавших в городе.
И все-таки мало. Мало для того обилия работ профессиональных каменщиков, резчиков, да и живописцев, которые в Торопце имелись в этом столетии. Нельзя создать большую школу, имея по два-три человека нужных специальностей в городе, да и то в основном пожилых. Не из воздуха же они взялись?
А вот в некотором смысле – из воздуха. В смысле, что город не находился в безвоздушном пространстве, а был окружен густонаселенным уездом, где можно было без труда найти подходящих мастеров. Эти мастера в уезде Торопца, где почти не было монастырского землевладения и государственных земель, были, конечно, чьи-то – то есть крепостные люди тех или других помещиков. Рабы, как бы кое-кто сказал.
Хорошенькие это были рабы, если создали такое!
Крепостных работников в начале XVIII веке в Торопце имели не только помещики, но и купцы и даже священники. Судьбы у них были разные. Часть при каких-то обстоятельствах получала свободу и записывалась в посад. Не исключено, что и из их среды выходили иконописцы, плотники, каменщики, штукатуры. Объем работ в городе того времени давал возможность трудоустроить многих таких специалистов-ремесленников. Но большинство и были, и остались до смерти крепостными. Их могилки давно забыты на деревенских торопецких погостах, их имена неотличимы от десятков имен других дворовых в ревизских сказках.
Мы, вероятно, никогда не сможем определить всех этих мастеров (если только судьба не подарит нам исключительной удачи – прямого списка тех лет, уцелевшего где-нибудь в архиве). Но их произведения, память о них, сохранилась до наших дней. И будет несправедливо о них не рассказать.
Глава 2. Предтеченская церковь
Если вы приедете в Торопец и захотите увидеть хоть одним глазком, хоть чуть-чуть, тот волшебный барочный мир, что когда-то видели Случевский, Соболев и Бартрам, надо зайти в церковь Иоанна Предтечи.
Как правило, по выходным она закрыта, но усилия по поиску гидов и ключа себя обязательно оправдают. Некоторые говорят, что интерьер торопецкой Покровской церкви круче. Это ерунда. Они разные. Вы же не сравниваете красное каберне и клюквенный морс домашнего приготовления.
Предтеченскую церковь надо воспринимать как зеркало своего времени. Этот сложноустроенный храм напоминает о временах, когда жить надо было пышно, дебело, не стесняясь форм и даже ими кичась. А размер не имел особого значения.
Хотя камерное пространство барочного храма лишь кажется маленьким. Оно выстроено таким образом, что самые интересные детали вы все равно будете видеть как бы в перспективе, в отдалении – и так это и задумано, чтобы вы двигались по заданной траектории, медленно все рассматривая. Многочисленные лепные украшения и головки херувимчиков населяют небольшой сводчатый зал главного придела – и кажется, они смотрят с высокого кремового неба. С непривычки удивляет, что церковь – разноцветная. Цвета такие густые, что даже возникает искушение решить, что перед нами поздняя покраска по благородному тонкому «античному» колеру, но нет: она такого цвета и была, лишь нужно сделать поправку на потемнение красок. В оригинале – это «мундирные» цвета: серовато-голубой, белый, зеленый, красный и золотой. Все вместе они создают эффект выхода на бал гвардейского полковника в парике и кружевах с супругой - пышной разрумяненной елизаветинской красавицей, на которую туго натянуто двадцать юбок и еще корсет.
Если красавица сейчас не очень видна, то это не по вашей вине. Представьте, что ведь была еще богатая резьба иконостаса. Иконостас погиб в 1930-х годах даже не сфотографированный.
Информации о церкви не особенно много. Как обычно по закону подлости, до нас дожил памятник, не вызвавший особого интереса дореволюционных исследователей. Похоже, просто ключа в 1912 году не нашлось или не договорились о съемке с приходом Преображенской церкви (и ее фото целого интерьера нет, а там было, что снимать!). Нам же остается только плакать от бессильной обиды.
Наиболее подробно о храме сообщает протоиерей Владимир Щукин в 1906 году. Иоанно-Предтеченская церковь выстроена в 1704 году как соборный храм небольшого женского монастыря. В 1708 году был освящен придел Рождества Христова. Первоначальное убранство храма пострадало от пожара в 1738 года и долго затем не восстанавливалось.
В 1763 году игуменья Елизавета с сестрами обратилась к торопчанам похристарадничать и собрать «на строение внутри церкви щекотурной работы кому что Господь соблаговолит подать от своих трудов праведных…». Времена были для Торопца самые сытые, и местное купечество сходу накидало в кружку 229 рублей 82 копейки, что было порядочной суммой, позволившей провести работы на высоком уровне.
Хотя в 1764 году монастырь должен был быть упразднен по екатерининскому указу, но торопецкое общество опять воспротивилось такому решению (в городе не оставалось в таком случае никакого женского монастыря), и Иоанно-Предтеченский монастырь продлил свое существование до начала XIX века, захирев лишь тогда, когда стремительно захирел уже и сам Торопец, и некому стало поддерживать сестер маленькой городской обители.
Церковь стала приписной к соседней Преображенской. Та тоже не процветала. По этой причине ремонтов было немного. В 1885 году был заново освящен придел в честь Рождества Христова, а главный престол дожил до советского времени без особых перемен.
Советское время принесло церкви разруху и запустение, но конторы и склады разных «заготов», а потом склад кинопленки – это все-таки не колхозные удобрения и не гараж. Поэтому, когда храм начали реставрировать в начале 2000-х годов и потом передали верующим, тут было еще что спасать. Приход долго раскачивался, но сейчас, к сожалению, быстро поехал. Так что тем, кто хочет увидеть эту красоту, стоит поторопиться. Притвор и придел Рождества Христова на начало 2021 года уже отремонтированы и блестят свежей краской. Лепнина уцелела, но теперь, кроме центрального плафона с Саваофом, она вся беленькая на голубом. На нынешних голубых стенах Рождественского придела – фантазийный живописный декор (травы). С лепниной он, само собой, не гармонирует.
Что будет с приделом Рождества Иоанна Предтечи – сказать трудно.
Пока он в таком состоянии, в каком его оставили при передаче храма церкви.
Мы имеем дело с хорошо датированным памятником. Лепная декорация и живопись были выполнена в 1763-1764 годах. Эта дата идеально ложиться на то, что мы видим в действительности. Декорация свода типична (ненавижу это слово, но это так). Она представляет собой любимый в XVIII веке сюжет на тему истории Адама и Евы. Но там, где ярославский мастер размахнулся бы одной композицией на целый лоток свода, здесь сюжеты очень мелки, напоминают картины. Композиций всего шесть, и те занимают лишь процентов десять поверхности. А все остальное – это пышные пологи и рельефы держащих их ангелов. Из-под этих пологов нам предлагается заглянуть, что там делается с прародителями.
Забавно, ведь мы в соборе женского монастыря…
В полуваликах карниза в основании сводов помещены сюжеты: «Сотворение Евы» (южный), «Изгнание из Рая» (северный) и «Плач Адама и Евы о Рае» (западный). Этот последний очень важен. По нему видно, что образец более сложен, чем кажется на первый взгляд. Только этот последний сюжет имеет образцом издание библейских гравюр по мотивам Библии Мериана (немецкого оригинала которого начала XVII века, правда, тут, скорее всего, не было).
Русский или немецкий переиздатель выпустил все подробности со зверями, сократил пейзаж, убрал почти всю фактуру оригинальных немецких гравюр, оставив только самих прародителей.
Остальные сюжеты и то, что выше (там еще три сюжета в барочных рамах) – в основе имеют более позднюю «Библию Вайгеля» 1695 года, очень близкую по иконографии, но тоже в урезанном виде без зверей и в барочных рамах.
Почти наверняка и здесь у торопецкого мастера был не оригинал Вайгеля, а какое-то переиздание, может быть, совмещающие в одной книжке или даже на одном листе два этих образца. В рамах на западном и северном лотках свода помещены очень похожие на вайгелевские «Грехопадение Адама и Евы» и «Наказание жены и мужа» (так сюжеты названы у Вайгеля, а в Торопце ни одной надписи не сохранилось). Изображение на южном лотке – глубокая переработка последней, пятой (а на самом деле первой) гравюры на тему приключений прародителей у Вайгеля: «Сотворение человека к славе Божией», в которой тоже оставлены только Адам и Ева и небольшое сияние славы Божией над ними.
В России в те времена существовали отдельными оттисками листы с «Шестодневом» и историей прародителей именно в такой подборке и с такими вариантами сюжетов, как у нас. Были даже целые русские гравированные библии, вроде известной «Библии Нехорошевского» 1746 года. Но какие из них были у торопчан – не знаем. Мы не знаем даже сколько их было вообще, этих изданий. Д.А. Ровинский описал несколько, но, понятно, далеко не все.
И, конечно, отдельный шифр - такая система росписей. Но здесь, если я не обманываюсь, намеки прозрачные: на южной стене по смыслу – все хорошо (ну, или пока все хорошо, в начале, когда скромная и красивая Ева только-только была создана). На северной стене – как случилось то, что случилось (краткое содержание двух композиций: съели – и не раскаялись). И на западной – а вот теперь и живите с этим (изгнание и плач по этому поводу).
Ну и вообще: раз монастырь женский, то пусть женщины и любуются, до какой горести женщина довела первое человеческое семейство, а все могло быть так прекрасно!
Ах, да. А на восточной стене этим композициям о жизни прародителей противопоставляется одна сцена. Она не сохранилась, но тень ее хорошо читается под пышной барочной сенью: Новый Адам висит на кресте, и слева от него склоняется в скорби Новая Ева.
Надежда наша…
«Историю Адама и Евы» Иоанно-Предтеченской церкви можно сравнить с еще одним памятником, чудом уцелевшим от художественного мира Торопца середины XVIII века. Хотя по справедливости и его можно было бы упоминать в прошедшем времени. Но, по крайней мере, я его видел, вы, возможно, тоже увидите, если поторопитесь.
Это Якшино.
Якшино – практически погибшая совсем недавно усадьба, исключительная, потому что ее каменный дом - 1750-х годов. Более старых усадеб по нынешней Тверской области – Тухани, Чукавино, да еще сердюковский дом в Волочке.
Нужно было быть большим вельможей, чтобы строить каменный замок в провинциальной России в те годы. Или иметь своих крепостных, которые способны были сделать по чертежу или модели то, что ты хочешь. Или, в идеале, и то, и другое.
В Торопце было несколько таких, кто такими возможностями располагал.
Эти - Кушелевы.
Дом в Якшине – тяжелый сундук с «петербургскими» наличниками. Он такой один. Ни один купеческий особняк в Торопце точь-в-точь подобного декора не имеет. Купцам будут строить позже, по его образцу, но немного не такое. Якшинский дом, видимо, послужил им примером.
Дому в Якшине – конец, хотя он был цел еще лет двадцать назад, пока там была школа. Теперь только едва заметные на обрушившихся стенах наличники с необычными, как на торопецких церквях, треугольными завершениями, да остатки сводов остановят внимание на этом сооружении – самом раннем, похоже, гражданском строении вне Торопца, если и не вообще в городе и районе.
Благовещенская церковь в селе Якшине, построена, если верить псковской епархиальной хронике 1896 года, сенатором Георгием Кушелевым и освящена в 1757-1758 годах. (Надпись на иконостасе называла строителем уже его сына Сергея Георгиевича и его супругу Евфимию Ивановну в качестве главных ктиторов). Понятно, что и отец, и сын Кушелевы относились к этой стройке с особым пиететом. Георгий Кушелев, как показывали в XIX веке, здесь же и был похоронен.
Галашевич в «желтом путеводителе», датировав церковь 1788 годом, напрочь промахнулся и с ее посвящением, и с датировкой, и с заказчиком, и с местом в торопецкой истории. Это не неудачная поздняя реплика – это образец и прототип «торопецкого барокко» вообще.
В Благовещенской церкви Якшина сохранялись еще несколько лет назад остатки живописи середины XVIII века, которая очень просится быть в лепных рамах, но лепных рам не имеет. Рамы под скромные живописные композиции там нарисованные. Живопись находится только в своде купола, и только в нем и была.
Несколько лет назад я сам, не углубляясь в эту историю, предложил датировку живописи 1770-1780-ми годами, но, пожалуй, дату стоит пересмотреть в раннюю сторону. Помимо того, что дополнительные работы по этому храму после его освящения выглядят странно, путаницу вносит дата 1788 год (освящение последнего придела?). С учетом аналогов, можно сказать, что стенописи холодного храма созданы в 1757 или 1758 году, тогда же, когда и утраченный иконостас.
Как ни грустно, но в Якшино Соболев с Бартрамом не доехали. Хотя им было совсем недалеко. От Якшина, конечно, хоть что-то осталось, но кабы был старый снимок, показывающий, что там было, было бы неизмеримо лучше. Все-таки это заказное произведение не бедных и титулованных Кушелевых, которые отметились надписью с автографом на погибшем ныне иконостасе – это редкость (да что редкость, среди обследованных Н.Н. Соболевым и Н.Д. Бартрамом церквей такого больше нет).
Увы, имеем только эти обломки. Живопись здесь по стилю такая же, как в Предтеченской церкви в Торопце. Это очень беглая, легкая и местами даже эскизная манера. Она характерна вообще для Торопца середины - второй половины XVIII века.
Из нескольких композиций в Якшине более-менее читаются две: «Адам перед Богом» и «Грехопадение». Обе отличаются от предтеченских. С образцами тут – не все просто, хотя голландское происхождение их и родство с изданиями Пискатора сразу очевидно.
Надо помнить, что не все гравюры, и отечественные, и зарубежные, во-первых, нам известны, а во-вторых, сохранились. Иногда поиск этих образцов заходит очень причудливо. Вот, к примеру, картина Иоахима Утеваля (Joachim Wtewael), до деталей совпадающая с нашей росписью – картина из ассортимента так называемого «нидерландского маньеризма» начала XVII века. Европа точно так же, как Россия, была полна художниками, работавшими по шаблонам и образцам. 1610-е годы.
Что-то такое же послужило образцом для гравюры на эту тему в Библии Пискатора, но не тиражного и массового в России издания 1674 года, а весьма редкого более раннего издания 1643 года, от которого сохранилось всего несколько экземпляров в крупнейших библиотеках. Несмотря на редкость, этот старый образец был в России широко известен. Мы находим его, в этой иконографии, вообще в другом месте, в другом контексте и у художника, который точно не ездил в Торопец. Памятник этот называется церковь Архангела Михаила на Городу в Ярославле, датируется 1731 годом (дата точная) и имеет автора – Федора Федорова, мастера пожилого, для которого эта роспись стала последней крупной работой. Конечно, он новинками иконографии баловаться не собирался. И в Ярославле – именно то же, что мы видим в Якшине, тот же самый «не тиражный Пискатор».
И надо же – это же и под Торопцем. И если в Ярославле это как-то можно объяснить близостью крупной митрополичьей библиотеки, то как это дошло до Торопца. И не только ведь до него. Такая же композиция - в Тетеринском под Нерехтой в 1799 году и в других местах, где уж точно с редкими образцами было напряженно.
Причудливо же перемещались по России гравюры. Иногда, после таких сопоставлений думаешь, что эти образцы специально подбирались в некие «хрестоматии», и подбирались где-нибудь в столице, где могли работать опытные мастера, а затем с их учениками расходиться по стране. Не получается объяснить иначе, как далеко не тиражная голландская гравюра попала в разные концы страны. Еще труднее объяснить, почему в Якшине образец вот такой, достаточно старый, из условной «подборки» еще времен поздней Оружейной палаты, а через несколько лет у художника Предтеченской церкви этого образца уже нет в наличии. Сгорел в пожаре? Не понравился заказчику? Или был вызван другой художник, более молодой, у которого такого образца изначально не было? Не знаю.
Сохранившиеся на стенах изображения святителей поначалу не особенно вдохновляют на поиски и открытия. Они написаны в характерной для 2 половины XVIII века иконографии по расхожим гравюрам, изображавшим «святителей вообще» и имевшим чрезвычайно широкое хождение – буквально от Полоцка до Иркутска. Любопытнее состав этих святителей. Тут есть или были:
На северной стене в рост: «Иоанн Златоуст» и «Димитрий Ростовский», а в окне в откосе – «Иоанн Милостивый» (утрачен).
На южной стене на окнах в откосах «Петр и Алексий», «Филипп и Иона» (?) митрополиты Московские (все утрачены).
На западной стене в рост: «Василий Великий и Григорий Богослов».
И между ними единственное изображение на тему священной истории – «Сошествие Святого Духа».
Были и другие изображения, в самом нижнем ярусе – но они не сохранились. Были они маленькими – это единственное, что можно сказать. Досадно…
Однако присмотримся! Хотя святители и привычные, есть у них и особенности. Димитрий Ростовский изображен вроде бы с узнаваемой внешностью, но в еще не устоявшейся иконографии: осеняющий верных крестом и… без своих привычных митрополичьих регалий (ни Ватопедской иконы, ни книги, ни жезла при нем нет).
Необычно? Да. Конечно, с крестом (как бы во время службы) могли изображаться разные святители, в том числе вселенские. Аксессуары могли раздаваться по желанию заказчика или художника разными святителям.
Но так нельзя делать с Димитрием Ростовским! Димитрий Ростовский - особый. У его икон очень высока зависимость от гравюр, и, поэтому, некоторые аксессуары (и именно благословляющий крест) – вообще ему не свойственны. Ровинским, правда, описана редкая гравюра святителя Димитрия, на которой он с крестом, но все-таки - и с жезлом. Встречаются с нее иконы (хотя и тоже очень редкие). Но именно торопецкого варианта (в руках святителя крест, и он без книги и без жезла) – нет.
В нашем случае объяснение может быть простое: какое-то (может быть погрудное, маленькое) изображение новоканонизированного святителя у торопецкого художника было, а вот нужного варианта в рост – не было. И вот результат. Мне, во всяком случае, не известны аналоги подобного. В оправдание торопецкому художнику можно сказать, что святитель Димитрий был канонизирован всего лет за пять-шесть лет до этого. Но популярность у нового святого была невероятная, гравюры разошлись по стране очень быстро.
Не только Димитрий Ростовский тут необычен. Современный священник (или игуменья), кто составлял бы программу росписей, конечно, отыскали бы тут уголок и для Иоанна Предтечи и его жития (ведь придел-то в его честь). Но тем и прелестно это барокко, что оно не поддается современной логике.
Давайте мы теперь о Святом Духе поговорим. Точнее, конечно, не на высоком богословском языке, а вот на нашем, обычном. О сюжете «Сошествие Святого Духа». Это единственный новозаветный сюжет, вообще сохранившийся на стене этого храма (в карточке на храм этот фрагмент есть, здесь не буду давать его еще раз).
Нам повезло. В крошечном фрагменте высокого торопецкого искусства, который до нас дошел, или в тех фотографиях, что от него остались, довольно много именно этого сюжета, и мы можем сравнивать и делать интересные выводы.
А вообще-то, почему его много?
Любили. Это в тот век, очень падкий до таинственного и театрального, сюжет и таинственный, и театральный. Внезапное озарение и мистические языки пламени, осенившие апостолов в Сионской горнице, очень воодушевляли и художников, и зрителей. Сам замысел барочного храма должен был создавать эффект огромной театральной сцены, на которой играется та самая пьеса на тему Сошествия Святого Духа. Разумеется, никаких даже мыслей, что это «невзаправду», у людей того времени не возникало. Театр XVIII века – это не развлечение. Это икона космоса. А церковь – это священный театр. Так сказать, супертеатр.
Это привело к тому, что икона «Сошествие Святого Духа» в храмах того времени - часто крупная и центральная, а, значит, попадает в объектив фотографа, запечатлевавшего все это барокко для нас. Бывает, что она, как например, в Переславле-Залесском в Горицком монастыре – вообще ключевая сцена на царских вратах. Так бывало и в Торопце (на иконостасах в Хворостьеве (1764), Покровской церкви (1774) и Песно (1775).
Вариант, который мы видим на западной стене Предтеченской церкви – один из самых последних и моднейших на 2 половину XVIII века. Не стоит думать, что это – конструкция самих иконописцев. Она такая на огромном пространстве России у мастеров, не подозревавших о существовании друг друга. Одинаковое «Сошествие Святого Духа», совпадающее до деталей:
У Алексея Колмогорова в Троице-Глединском иконостасе в Великом Устюге начала 1780-х годов.
В Кушалине под Тверью около 1790 года.
На иконе из Архангельского придела в селе Верхние Котицы под Осташковом около 1789 года.
Еще можно пример привести из Нижнего Новгорода (середины - 2 половины XVIII века, частное собрание).
И другие.
И вот на данной торопецкой росписи около 1764 года.
Торопецкая, получается, из датированных самая ранняя. Что в ней отличительного?
Иконография. Характерная поза «возносящейся» Богоматери, апостолов с поднятыми вверх руками - это подозрительно узнаваемо – это помесь Тициана и Рубенса в голландском исполнении XVII в. Откуда эти листы образцов у русских иконописцев екатерининского времени? Можно осторожно предположить, если судить по барочной рамке, которую небрежно, но все же скопировал тверской (кушалинский) художник, что имелось у них какое-то издание середины XVIII века, переработавшее старые образцы Алексея и Ивана Зубовых. За то, что этот лист вышел откуда-то из Москвы, говорит и география, и известные факты: свои листы для работы Колмогорова устюжане тоже покупали в Москве.
Совпадают все перечисленные памятники буквально. Так что нужно подождать в поисках подходящей гравюры. Она наверняка найдется.
Из довольно многочисленных торопецких «Сошествий Святого Духа» 3 четверти XVIII века отыскивается лишь один близкий аналог нашему. «Многочисленных» - думаю, понятно, что многочисленных только по фотографиям Н.Н. Соболева и Н.Д. Бартрама. На местах это голые стены, уже не хранящие ничего, даже памяти о замечательных произведениях искусства. По фотографиям же можно найти аж семь подходящих икон на этот сюжет – они, как правило, в этот период занимают очень почетное место в иконостасах.
Но все эти «Сошествия» разные – тут в образцах видим полный ассортимент гравюр известных и еще несколько сюжетов, сложно поддающихся оценке. В ряде случаев, пользуясь гравюрами как основой, мастера, писавшие иконы механически перемещали одного или двух гравюрных персонажей из одного угла в другой, иногда проявляя при этом недюжинную изобретательность и ловкость. Торопчанам в этот период были известны как пискаторовская иконография «Сошествия Святого Духа», так и русские гравюры на этот сюжет – Алексея Зубова, Леонтия Бунина и других мастеров. «Зубовская» иконография была самой распространенной, но, как правило, и она в той или иной степени изменялась от иконостаса к иконостасу.
Лишь один аналог «Сошествия» из Предтеченской церкви - практически точный. Он находился в церкви села Пятиусово и был написан в 1765-1766 годах. «Сошествие» в иконостасе этой церкви в точности совпадает с нашим, лишь качество иконы, насколько можно судить по черно-белой фотографии, было повыше, чем предтеченская стенопись. Впрочем, сравнение неблагодарное. Постояла бы эта икона в складе какого-нибудь «заготльна», неизвестно, как бы выглядела.
Что мы знаем о Пятиусове? Ну, во-первых, мы знаем, что оно в это время принадлежит помещикам Челищевым. Во-вторых, что в 1755 году там поновляет центральную икону торопецкий иконописец Гавриил Дерябин. Но заказывали ли Дерябину остальной иконостас, сказать нельзя. Однако запомним обе эти фамилии.
Вообще-то, если даже если делать скидку на сохранность, все равно живопись, уцелевшую в Иоанно-Предтеченском храме, нельзя назвать высококачественной. Это очень броское по краскам, но почти без полутонов и рефлексов письмо, от которого ощущение, что это вообще запись XIX века. Но это не так. Имей мы не черно-белые, а цветные фотографии 1912 года, мы, вероятно, сильно сморщились бы от аляповатости цветов большинства торопецких интерьеров. Город сам был очень ярким, яркими были и его иконы. В этом отношении в Торопце 3 четверти XVIII века еще очень чувствовалась близость Белоруссии с ее ранним, но и наивным увлечением «живописью» и яркими, напоминающими народные лубочные картинки иконостасами, возраст которых при этом весьма почтенный.
Чисто по-белорусски в Торопце отсутствует традиция православной монументальной живописи. И если даже деньги позволяли торопецким купцам такую устраивать, чаще всего ни подходящих мастеров, ни понимания, как это выглядит, у них не было. С кем у торопчан точно не сложился контакт, так это с мастерами Поволжья, ярославцами и костромичами, которые могли бы запросто им сделать монументальную живопись. Могли – те мастера работали везде – но нанять их не захотели. Оглядывались торопчане на близкую Белоруссию (точнее, тогда «Польшу»), и могли убедиться, что там никакой жесткой византийской схемы монументальная живопись не обнаруживает.
И Якшино, и Предтеченская церковь, и композиции в других торопецких храмах (в том числе и в Никольском соборе) выглядят экспромтами в каждом конкретном случае. В каждом случае индивидуально решался вопрос об украшении интерьера, и выбор образца для такого украшения часто ставился в зависимость от простого фактора – а есть с чего вообще писать? Хотя Никольскую церковь и ее стенопись 1802 года можно лишь с оговорками приводить здесь в пример (до нее ведь почти сорок лет), однако она показательна. В ее живописных композициях (а они плотными картинами-шпалерами покрывали и покрывают еще ее стены), очень мало привычного нам византийского канона, очень много прямо «отступлений» и еще больше ощущения, что сюда поместили те изображения, по которым имелись подходящие образцы. Такое ощущение остается далеко не только от росписей этого храма. Точно также путались и мастера из других городов, где своя традиция монументальной живописи в XVIII веке не возникла. Так, в Успенском соборе в Твери находился до 2009 году комплект живописных композиций 1799 года, нигде и никогда не попадавших на стены церквей и потом позже не имевших шанса на них попасть. Там были иллюстрации к какому-нибудь отдельному стиху Евангелия, иллюстрированному одной-единственной и совершенно не тиражной гравюрой (а то и гравюрой-иллюстрацией вообще не этому, а другому подобному стиху).
Я полагаю, художники были сильно зависимы и от заказчиков – и тут сказывалось еще то, что заказчики были не такими уж небожителями. Высшая церковная власть и так-то слабо представляла в те годы, что делается на местах, а Торопец был местом максимально удаленным от любой церковной власти. Поэтому не «приличный» «Символ Веры», не евангельские праздники, не апостольские и пророческие лики украшают своды Предтеченской церкви и церкви в Якшине, а назидательная притча о грехопадении. Мы не знаем (и не ясно, узнаем ли), что еще было на стенах Предтеченской церкви, ибо нижние ее ярусы утрачены, утрачены и композиции в приделе Рождества Христова. Но могли там быть совершенно случайные сцены, выбранные для иллюстрации одной, конкретной, и давным-давно забытой проповеди. Могли быть сюжеты по системе, никогда более не повторенной. Впрочем, в Торопце, а особенно в Якшине еще некому было в те годы составлять системы или говорить проповеди - за отсутствием духовной школы. Гораздо легче предположить, что образцами послужили случайные гравюры, а те могли быть приобретены тем или другим купцом на ярмарке – и Бог знает, где та ярмарка проходила: в Москве, Петербурге, Киеве, Могилеве, а то и еще дальше.
Остается еще сказать об Иоанно-Предтеченском храме самое главное. То, что в нем ярче всего бросается в глаза – его «театральное» оформление. Огромные пышные занавесы, напоминающие кулисы, «перекличка» композиций «Истории Адама и Евы» с одной стены к другой - все это, прямо скажем, новинка для того времени. Но новинка не единственная.
И еще здесь есть лепнина. На фото выше - так она выглядит в Христорождественском приделе после сильно условной "реставрации".
В Якшине лепнины нет, хотя ну по всему она должна быть. Кушелевы пользуются работой каменщиков, которые в эти же годы начинают строить Успенскую церковь, в которой лепнина есть. Лепнина – это престижно. Каменщикам очень нравится делать хоть маленькие, но обязательные рельефные украшеньица чуть не на всех торопецких храмах того времени. Финансовые возможности Кушелевым заказать лепнину позволяли. Но лепнины у них в храме нет. И ладно сейчас, когда это руина. И при Галашевиче, пятьдесят лет назад, ее не было.
В Якшине есть чудные, не совпадающие с другими памятниками барочные живописные рамки. (Посмотреть их можно на карточке храма). Прямо такие образцы я не смог найти. Но барокко в них очень скромненькое: не рококо, как бы мы сейчас сказали. Едва ли их образцы не петровского времени. С каких-нибудь петровских конклюзий, где травный растительный декор напоминает стилизации позднего русского XVII века.
Да-да, образцами для торопецкой лепнины стали гравюры, изображающие вообще не события Священного Писания, а бывшие фактически «билетами» для присутствия и в память того или иного дворцового события. И гравюр этих было очень, очень немного. Жаль, но среди опубликованных памятников прямо точных образцов предтеченской лепнине найти не получается. Но зато можно указать, где и когда эти образцы появились.
Основным, что запоминается в Иоанно-Предтеченской церкви, конечно, являются пышные шатры, увенчанные царскими коронами. Это довольно обычная вещь на гравюрах 1 половины XVIII века. Определенный ритуал изображать дворцовые церемонии в стилистике олимпийских пиршеств вечных и безмятежных богов, требовал в качестве слуг таких слуг-амуров. В искусстве Ренессанса и барокко это очень обыденные существа. Именуют их ныне чаще итальянским словом «путти», хотя в Торопце их звали, скорее всего, купидонами или амурами или вообще никак не звали.
Эти существа иногда меняли свои манеры.
Видно, что «петровские путти», как они запечатлены, например, на конклюзии в честь коронации Екатерины I, отличаются от путти торопецких.
У торопецких – характерный жест: закидывание ножки за ножку - так было принято делать уважающим себя пухлым младенцам в аннинские или елизаветинские времена. Как на этой гравюре из коллекции Эрмитажа:
А в балдахинах Предтеченской церкви оригинал лепнины, видимо, с каких-то подобных гравюр (светских, несомненно) 1740-1750-х годов (это изображение Елизаветы Петровны тоже из эрмитажной коллекции):
Балдахины с кистями, царские короны на верху этих шатров, которые опять-таки придерживаются милыми существами, летающими почти без крыльев, на каких-то их крошечных рудиментах, скорее, от радости – они слишком узнаваемы, чтобы их не узнать. Вот так эти свеженькие столичные образцы воплотились в Торопце:
Однако, такое уж иконописец на базаре не купит. Это барские игрушки…
Откуда бы им взяться?
Глава 3. Челищев и его диковинки
Барина звали Иван Сергеевич Челищев. Именно этому человеку принадлежало Отолово с той самой почти дожившей до наших дней удивительной торопецкой церковью. Ему много чего принадлежало, и он прожил по понятиям XVIII века долгую жизнь (1707-1781). По обычаям старого русского быта он был истово богомольным человеком. Предание приписало ему постройку аж тридцати церквей и за его могилу спорили Троицкое и Нилова пустынь (на самом деле, погребен он в Ниловой, это документально известно). Видимо, тридцать - общее число храмов, в которые он вложился. Штук пять он выстроил точно – Иоанна Предтечи в Ниловой пустыни (1777-1782), Отолово (1755-1767), два храма в Хворостьеве (каменный 1772 и деревянный 1764), видимо, Песно (1745-1775) и, по некоторым сведениям, Локня (деревянный храм 1770).
С его участием строились Старина (1782), Бенцы (1777), Пятиусово (1766 и 1781).
Если учитывать общее число храмов, возведенных в XVIII веке кланом Челищевых (в нем особенно заметны в 3 четверти XVIII в. Любим и Богдан Артемьевы Челищевы), то сюда добавятся еще: Пожня (1714), Всхоново (1769), Псовец (1771), Знаменское (1762) и другие (мы знаем не все). Все другие дворянские семейства – Кушелевы, Голенищевы-Кутузовы, Арбузовы, Абашевы, Жеребцовы, Лошаковы, Шетневы, Карауловы и другие – близко не отметились такой строительной деятельностью.
Но начинать нужно с утраченного ныне храма в селе Троицкое или Ново-Троицкое (ныне территория Западнодвинского района). Этот храм, наряду с погибшей еще в 1911 году Пожней, был главной достопримечательностью дореволюционного Торопецкого уезда.
Давайте по порядку.
Нижеследующий фрагмент опубликован в сети без ссылок на источник, кроме «Псковских епархиальных ведомостей» за 1896 год. Но такого текста в этом журнале за этот год и ближайшие годы нет, да и стиль показывает скорее корреспонденцию какого-то светского издания.
«...в пределах Псковской епархии, в Торопецком уезде, в 28 верстах от города, есть церковь Св. Троицы, сохранившая в себе часть мощей св. Евстратия.
Троицкая церковь построена в 1740 году усердием помещика Ивана Сергеевича Челищева, соорудившего до 30 храмов в Торопецком и других уездах.
Сам он с детьми – лежит здесь же, не оставив потомков мужеского пола, хотя говорит предание, заповедал им, под страхом проклятия, поддерживать храм Св. Троицы. Замечательный своей шатровой архитектурой, каменный храм имеет в 2-х ярусах четыре престола с прекрасно позолоченным (ныне, впрочем, потемневшим) иконостасом в главной престольной церкви, не беден утварью и ризницей. Престол в главном алтаре – открытый, поддерживается четырьмя резными евангелистами, а под престолом, в середине, тоже резной из дерева агнец с хоругвию (Апок. 7, 17). Престол венчается висящим балдахином. Весь алтарь, под обширным расписанным сводом, своим просторным помещением напоминает Псковский кафедральный собор.
Правый придел – Успения Богородицы, левый – 3-х Вселенских Святителей, наверху – праведного Лазаря с лепными по стенам изображениями страстей Господних и сидящим в амбразуре – Иисусом Христом, в терновом венце, окруженным коленопреклоненными ангелами. Придел этот примыкает к обширному помещению, под крышею, – где на особой горке стоит резное изображение молящегося в Гефсимании Иисуса. На горке – возлежащие ученики. Впечатление от этих изображений – необыкновенно сильное! Говорят, что иконописцы, каменщики, токари и все мастеровые – были все крепостные Челищева. Надо видеть, какой искусной работы св. иконы, херувимы, украшения и прочее. Из церковной утвари – замечательны: крест с частицами св. мощей, другой – из аметиста, Евангелие огромной величины, служебные книги времени Петра I и др.
Мощи св. Евстратия хранятся в углублении левой стены, в ковчеге, украшенном усердием помещиков.
Вообще вид всего священного здания – прекрасный; но время, неумолимое время, берет свое! Троицкая церковь, к которой были некогда приписаны другие, напр. Всхоново, несмотря на то, что имеет до 30 десятин земли, до 20 селений и до 100 дворов, в 1840-х г. г. приписана к соседней – Песненской и с тех пор осиротела. В 1857 г. срыт небольшой каменный храм на кладбище, посвященный памяти свв. муч. Флора и Лавра, а затем, при сокращении штатов, в 1860 г. г. некоторые деревни отошли к Грядецкому приходу. Что руководило этим распоряжением, неизвестно, но деревни эти и до сих пор празднуют Троицким праздником и посещают здесь могилы своих родителей, – не дальше нового прихода.
Только благодаря близости Песна, – 4 версты, – и усердию теперешнего причта, чередующего службу в приписной и самостоятельной церквах, мы миримся с лишением самобытности храма Св. Троицы».
Добавим и описание придела из записных книжек Соболева. Тут нужно это сделать. Ибо фотографий мало, и все они не передадут.
«Верхний придел во имя Воскрешения Лазаря. Плафон и стены имеют лепные изображения, фигуры изображены в натуральную величину. На восточной стене над иконостасом в средине Христос на кресте, около, справа и слева Б.М. и две женщины. Над сев. дв. «Снятие со креста», над южн. «Водружение креста» с распятым на нем Спасителем. На южной стене «Христос омывает ноги ученикам». На зап. стене «Тайная вечеря». На плафоне «Воскресение Христово». Сев. стена с окном и не имеет изображений. Все эти изображения во втором ярусе. В первом ярусе зап. стена имеет два кругл. окна, между ними и в углу, образованном зап. стеной масл. карт. изображ. Страсти Христовы. У южн. стены Резное изображение Христа в терновом венце и по бокам две фигуры ангелов, почти в натуральную величину.
Кроме Христа 3 воина и три жены мироносицы…»
В общем, это было чрезвычайно интересное местечко.
Забавно, что в Псковской губернии в конце XIX века не знали, что у Челищева было трое сыновей, что они (особенно старший, Петр) занимали видное положение. Не знали, что Челищев умер и погребен в конце декабря 1781 года в Ниловой пустыни, где он с немалыми препонами (церковные власти были поначалу не в восторге от этой идеи), построил церковь Покрова и Иоанна Предтечи над пещерой преподобного Нила.
Не знали потому, что усадьба Челищева находилась «по ту сторону границы» (хотя всего в паре верст от нее), уже в Тверской губернии, в Отолове, и там был построен дом, видимо, не уступавший якшинскому. От него ничего не осталось.
Губернские границы и тогда были серьезной преградой для краеведения.
Не знали в Пскове об этом странном человеке, что он очень, до страсти, любил театральные эффекты. Свои собственные похороны как театральное представление, составленное из помеси немецких и русских од и церковной панихиды, репетировались им за много лет. В библиотеке Ниловой пустыни хранилась (теперь она в РГБ) рукопись, посвященная этому важному событию, а за неукоснительным соблюдением ритуала в реальном шоу следил сын свежепокойного заказчика, Петр Иванович Челищев. Конечно, важным элементом здесь был и надгробный памятник. Несколько эскизов его содержится в рукописи Ниловой пустыни. Видно, что круг чтения Челищева был порядочным, а сам барин – образованным, знавшим языки и видавшим свет. Памятник - усеченная пирамида с поверженным воином рядом с ней. Это надгробие не сохранилось, но, можно сказать, что весь первый этаж церкви Иоанна Предтечи в Ниловой пустыни затевался как памятник отнюдь не только преподобному Нилу.
Хотя и ему тоже. Нельзя сомневаться, что именно Челищев причастен к появлению знаменитого первообраза-статуи преподобного Нила Столобенского. В противовес иногда тиражируемому мнению В. Гершфельд, высказанному еще в 1970-х годах, резные фигурки Нила появились далеко не со времен основания монастыря. Как убедительно показала недавно Т.В. Барсегян, массовая тема статуэток преподобного Нила появилась не ранее конца XVIII века. И образцом такой скульптуры стало ростовое изображение в Иоанно-Предтеченском храме в Ниловой пустыни (сейчас в музее там же). Сама идея устроения «модели пещеры» преподобного очень соответствует характеру времени и любви к театральным эффектам. А чтобы театральный дух проник в Нилову пустынь, нужен был, условно говоря, «проводник». В нем очень даже легко увидеть Ивана Сергеевича. С Челищева сталось бы придумать «вертеп» в честь преподобного Нила. И его деньги затыкали рот возражавшим, что по канонам так вроде не положено, что так-де не было ведь никогда. Не было – будет!
Конечно, с полной уверенностью сказать, Иван ли Челищев или кто-то рядом с ним (а кто?) придумал скульптурный образ преставившегося Нила, опершегося на костыли, мы не беремся. Воплощение своей идеи Челищев мог и не контролировать. Резчиков и в Осташкове хватало. Хотя – мог ведь дать и своего, отоловского мастера, если бы была нужда. Предмет, как говорится, требует дополнительного изучения.
Похоже, первое время этот «вертеп» Нила был странной диковиной в храме, построенном Челищевым наперекор куче запретов.
А в XIX веке, как известно, о сопротивлении забыли, и копии с этой статуи стали главным символом Селигерской земли вообще.
И до сих пор остаются.
Так бывает.
На Челищева в Ниловой пустыни при жизни смотрели с некоторой опаской. Что было в голове у этого несомненно тщеславного человека, монахам, людям, большей частью, совсем другого склада, было неясно. С образованным и проницательным архимандритом Феодосием, Иван Сергеевич не нашел общего языка. Архимандриту казалось, что деньги Челищева нужно раздать бедным, пустить на насущные церковные надобности и т.д. Он был явно прав, но Челищев был непреклонен. В конце концов, обратившись с прошением прямо в Синод, Иван Сергеевич воплотил свои амбициозные замыслы.
Замыслы Челищева воплощались не только в Ниловой пустыни. По-настоящему «челищевских» храмов, кроме ниловского, было два – в Троицком и Отолове. Оба они обладают (обладали), кроме статуй, которых там было непомерно много, и такой странной особенностью – «приделами-галерками». В Троицком – это верхний придел Воскресения Лазаря, а в Отолове – придел Успения. Воплотить в жизнь этот последний было завещано уже сыну Ивана Сергеевича, но и Петр Иванович не довел дело до конца. Только внучатый племянник, Сергей Алексеевич Челищев, в 1831 году добился освящения придела, сделав Отоловский храм одним из немногих в стране трехэтажных храмов. Появление верхнего придела стало ничем иным как строительством элитной «ложи» в священном театре, которым и стала церковь в Отолове, напротив челищевской усадьбы.
Зачем?
Сама по себе театральность церковного действа в XVIII века, как мы знаем, никого не удивляла. Середина столетия стала апофеозом этой идеи, вызвавшей к жизни множество церковных проектов, призванных воплотить в натуре, на местности и в храмах, детали священной топографии. Именно поэтому горки в архиерейских парках становились Фаворами, загородные дачи – Эммаусами, а балконы и галереи кафедральных соборов – Сионами, Гефсиманиями и иными верхними комнатами из Священного Писания. Нетипично, что в Торопце такие идеи, обычно выходившие из среды высшего духовенства, вышли из среды дворянской, а воплощать их вздумал «отставной секунд-маиор». Нужно вспомнить, кстати, и то, что в Торопце обожали театр, а «камедь» была в середине XIX веке непременной частью любого и церковного, и светского праздника (М.И. Семевский. Торопец уездный город Псковской губернии. 1864. С. 44-45). Однако – а не со времен ли Челищева пошел этот обычай.
Обратим внимание на сообщение, что Челищев пользовался при строительстве храма кадрами из собственных крепостных. Скорее всего, это правда. Не имея даровых квалифицированных кадров, подобное сложно воплотить. Ниже мы убедимся, что у него были и свои резчики, и свои лепщики, и свои художники. Непонятно, кто их учил – это могли быть и какие-то в прямом смысле пленные немцы или шведы, или выведенные из-за «польской границы» белорусские мастера. Кто-то ведь делал иконостас в челищевской Пожне в 1710-х годах. И куда-то ведь эти люди потом делись.
Соболев, списавший с запрестольного креста дату, говорит, что все работы в Троицком были завершены в 24 августа 1740 года.
Но когда видишь на фото и церковь, и то, что получилось в итоге, уверенно можно сказать – придел сделан позже лет на двадцать, если не больше.
В Троицком к 1740 году был построен хороший такой для раннего Торопца храм, очень близкий другим подобным, с московским узорочьем, запоздавшим сравнительно с Москвой лет на пятьдесят, с богатым, еще в стиле позднего XVII века декором. Строился храм, видимо, долго, лишь к 1740 году был завершен прекрасный главный иконостас.
Но в 1760-х годах на этот иконостас были добавлены резные фигурки ангелов и херувимов, барочные раковины, довольно плохо вписавшиеся в первоначальный замысел.
И, наконец, дополнительно был построен еще маленький придел Воскресения Лазаря. То, что он был устроен позже, не вызывает сомнений. Видно, что в здание на раннем этапе его жизни (лет через двадцать) были внесены изменения. Новый придел был отсечен от пространства храма, где уже был внизу придел Трех Святителей, дополнительным потолком, став его вторым этажом. Со стен наверху исчезло все узорочье, зато появились два круглых окна на западной стороне.
Все это было задумано под устройство интерьера, воплощение которого было поручено явно тому же мастеру, что делал лепнину в церкви Иоанна Предтечи. Достаточно посмотреть очень странно вылепленные личики ангелочков в торопецкой церкви, сравнить с тем, как сделаны эти лица на лепнине в Троицком, чтобы увидеть тут одну руку. Иван Сергеевич Челищев имел буквально двух-трех мастеров, но они были именно его собственные мастера, делавшие эксклюзив.
Однако в Троицком эти мастера сделали такое, чего никогда больше не делали. Лепные рельефы шли на сводах в два ряда и были размером в натуральный человеческий рост. Где-то рядом под крышей (Соболев и Бартрам этого уже не увидели или им не показали?) находилась знаменитая скульптурная группа «Гефсимания» (привет, Переславль-Залесский). Но только тут Гефсимания была Христа, а не Богоматери. Зато наши исследователи сфотографировали резные скульптуры скорбящего Христа и ангелов при нем.
И сделали один, увы, только один кадр самого придела – невероятного по тому компоту, из которого этот придел был сделан.
Фигуры, конечно, у этих святых… мда… и ноги как ласты.
Анатомии здесь нет и в помине, и пропорции искажены.
Но зато сколько же в этом наивной, совершенно готической (слово это кажется здесь уместным) выразительности! Эту лепнину делал, конечно, иконостасный резчик, очень талантливый, но не получивший никакого образования.
И да, у него тоже были гравюры. Эти сцены Страстей очень типичны для 3 четверти XVIII века. Разумеется, это - в отдаленном анамнезе Рубенс, но, разумеется же, гравюра с него, грубоватая, поздняя, едва ли не лубочная. Подобные были в ходу у многих художников в это время.
Кроме трех перечисленных выше храмов, лепниной в Торопце обладает еще Успенская церковь. У нее есть очень скромная лепнина в алтаре, выполненная в те же годы, примерно в 1765-1767-м и, видимо, тем же мастером, что и лепнина в Предтеченской церкви в Торопце и в Отолове. Видно, что сделано той же рукой, скромненько, без затей, без продолжения в интерьере.
В Успенской церкви скорее всего, тоже работал мастер Челищева. Почему Челищева? Очень просто. В 1763 году дом Ивана Сергеевича Челищева в Торопце был в приходе этой церкви. Вот как описано это домовладение (Николев, Найденов. С. 114): «двор и место торопецкого помещика Ивана Сергеевича Челищева, ˂живет˃ Иван Максимов Паршин 18 лет, живет без найму во дворничестве, питается черною работою, в оклад не положен, и податей никаких не платит за малолетство и за скудостью. Живет внутри города в приходе церкви Успения Пресвятые Богородицы. Мать ево вдова Марфа Константинова дочь».
И, конечно, богомольный барин счел своим долгом вложиться в стройку и украшение своей приходской церкви. Вложился тем, что ему было проще всего: отправил своего мастера.
Собственно, тут же можно и спросить. Хорошо, Троицкое и Отолово – это вотчины и усадьбы Ивана Сергеевича Челищева. Успенская церковь – его приходская, если барин приезжает в Торопец. Но почему осчастливлена церковь Иоанна Предтечи?
Вот эту загадку пока не получается разрешить.
Один ответ очевидный: потому что это патрональный храм Ивана Сергеевича. Он построил такой, в честь себя любимого, и в Ниловой пустыни. А в Торопце, раз Предтеченский храм уже имелся, украсил его дорогой лепниной. Наверное, работы были предложены игумении Елизавете уже по факту: мол, мастер будет, с тебя только материалы. Скорее всего. Но не исключено, что в монастыре проживала какая-то из Челищевых, родственница нашего главного благотворителя. Это единственный на город и уезд торопецкий женский монастырь, его насельницы – это не деревенские вдовы и девки. Да и кто такая эта Елизавета? Не Челищева ли?
Может быть, архивные поиски прольют свет и на этот вопрос.
Правда, Галашевич пишет, что была лепнина в Торопце еще в одной церкви - Рождества Богородицы. Мы проверили – но нет, там нет никаких даже следов такого украшения. Это следствие путаницы, возникшей из-за того, что Рождественской может быть названа и Предтеченская церковь (по приделу Рождества Христова и по тому, что вообще-то она – в честь Рождества Иоанна Предтечи). Ошибка «желтого путеводителя» - здесь именно механическая ошибка. Сам же А.А. Галашевич, в паспорте (хранится в тверском ГУ по охране культурного наследия) на церковь Рождества Богородицы пишет о ее белых стенах, полностью забеленной живописи, просматриваемой только в куполе. Она там есть и сейчас, и даже отмыта. Увы, это скромная, хотя и милая живопись 1903 года.
Челищев, как видно, очень любил «щекатурные» штуковины. Но ими не ограничивался. Не с меньшей ревностью он заводил среди своих крепостных хороших резчиков. Как минимум, таких было несколько, в том числе один, совершенно уникальный мастер. Этот резчик видел такое, что едва ли выпадало на долю обычного дворового из далекой торопецкой деревни. Он явно бывал в Петербурге и видел если не царские дворцы, то храмы, возведенные по царским заказам. Понятно, что видел не просто так, не как турист – а чтобы смог такое повторить в своей деревне.
Челищев не смущался, что в Троицком Лазаревский придел делается далеко не на столичном уровне. Не смущался, что иконостас делается дешево, из разностильных кусков, что куски эти прямо напоминают аппликацию неуемного декоратора или ребенка.
Для придела были взяты старые царские врата XVII века, их густо украсили модной в 3 четверти XVIII века плетенкой с цветами, к ним приладили две головки херувимов, царскую корону сверху и – дополнительно – налепили еще две иконы «Успение» и «Положение во гроб».
Плетенки густо украсили также низ и фоны для основных икон. Самих икон… не было. Разного размера образа были собраны вместо них наподобие мозаики в иконных рамах. И хотя кажется, что это случайно подобранные вещи – но нет, там была своя система. Такой «наборчик» из икон был заказан, судя по листам рукописи о погребении Челищева, и на намогильный памятник нашего секунд-майора.
Круглые тондо с рокальными рамами обрамляли все это по бокам. Но чуднее всего были детали: столбы в виде пальмового леса и резьба на фризе в виде повторяющихся двух пальмовых ветвей-ваий, обвитых венком. И сверху такой хороший карниз с сухариками, наимоднейший для столицы 1750-х годов.
В Торопце!
Впрочем, пальмовые деревья и венки – это почище будет.
Венок и деревья… где-то мы такое уже видели… Где же? Да у Ринальди! Вспомним Китайский дворец в Ораниенбауме, его кабинеты, украшенные пальмовыми стволами и вот такими венками, оплетающими пальмовые вайи.
Такой декор, даже если это уже 1760-е, все равно - свежайшая столичная мода. Столичные новинки. Но как же странно они сочетаются в комплексе с вещами совершенно другими, из другого ассортимента! Подобно гнезду сороки, натащившей драгоценностей и мишуры в одну кучу. Как это носить, куда это приладить, что ценно, что нет – хозяйка не знает.
Вряд ли это знал и мастер, который все это делал. Как и скульптор, делавший лепное убранство, как и резчик, делавший деревянные резные скульптуры (если это были разные люди, он - и тот, кто делал иконостас), они работали, интуитивно нащупывая форму, оглядываясь на имевшиеся перед ними рисунки и гравюры, пытаясь поймать стиль, невиданный пока в торопецкой далекой провинции, но столь желанный их господину, да, наверняка, не только ему.
У них получилось не как в столице. Но именно поэтому прекрасно.
Даже не особенно искушенные в столичном искусстве, даже не очень любившие барокко местные авторы конца XIX века понимали, что это – уникум российского масштаба. Много лепнины потом сотворили мастера Торопца и Осташкова за восемнадцатый век. Но никогда больше – такое.
…Пишут, что стены церкви в Троицком рухнули окончательно, когда мимо проехал колхозный трактор в 1950-х годах. Ага – мимо он проехал! Сколько таких оправданий можно услышать от современных вандалов! Но факт – храм был ветхий и очень больной уже в начале XX века. Не много усилий затратили те, кто решил просто по глупости и низости своей добить его. Так Россия окончательно лишилась одного из лучших интерьеров своего времени.
Мы можем только очень осторожно датировать придел Воскресения Лазаря 3 четвертью XVIII века, до отъезда Челищева в Нилову пустынь. И не можем сказать, раньше или позже это появилось, чем лепнина Предтеченской церкви и Отолова. Скорее всего – они практически одновременны.
Два фактора говорят за это. Первое. Резные венки с вайями как в Троицком были на фантастическом резном балконе в Пятиусове (1766).
И второе. В Троицком была удивительная вещь – резной престол на статуях апостолов. В Торопецком уезде был очень похожий еще один – в Хворостьеве, как описано у Соболева, «перенесенный из старой каменной церкви».
У престола две даты – 1764 (постройка деревянной церкви по клировым ведомостям, мало ли, вдруг предание ошибается) или 1772 (антиминс в каменную церковь). Вот, собственно, и временной интервал.
А, ну, и кстати напомню: в те годы Пятиусово принадлежит семейству Челищевых, а Хворостьево – прямо вотчина Ивана Сергеевича Челищева.
Вот это последнее почему-то совсем не удивляет!
Каково было удивление Соболева и Бартрама, когда они обнаружили в совершенно заремонтированном и невыразительном деревянном храмике погоста Старина, рядом станцией Западная Двина Московско-Виндавской железной дороги еще один уникум.
Будь этот уникум жив сейчас, поселок Западная Двина Тверской области не пыжился бы, пытаясь обрести туристическую привлекательность. Был бы у них свой Ораниенбаум.
Но, как мы понимаем, нет у них Ораниенбаума. Ничего на том месте не осталось.
Деревянная церковь 1782 года постройки имела простейшую структуру квадратного помещения, перекрытого на два ската с подшитым потолком под самым коньком. Таким образом получилось ковчегообразное помещение со сравнительно высокой средней частью и пониженными боковыми – этакий сундук изнутри. В эти боковые части удалось запихнуть два придела, Николая чудотворца и Иоанна Крестителя. Уже привычно вскидываемся, когда слышим «Иоанна Крестителя». И правильно. Это опять его святой, Ивана Сергеевича Челищева. Правда, на этот раз все было сделано по остаточному принципу: храм простейший, деньги, видимо, накопленные и завещанные. Слава храмоздателя досталась его сыну, Алексею Ивановичу. Он числится храмоздателем, хотя и дата, и посвящение придела слишком явно намекают на Челищева-старшего. Но даже если бы у нас были сомнения по документам относительно реального участия того или другого из Челищевых, то в интерьере мы не усомнились бы в этом ни секунды.
Да, там был тот же самый, «троицкий», пальмовый лес. Тот же самый, изощренно тонкий узор в виде украшенной цветами плетенки – на царских вратах. И «троицкие» же ленты, узорно обвивающие венки.
Да, а еще Соболев записал: «Иконостас красный с золотом, Luis XV». Вот как. Красный с золотом. Яркое торопецкое рококо.
Я думаю, не нужно доказывать, что резьба здесь была выполнена тем же резчиком, что работал в Троицком. Это, кстати, означает и то, что придел Воскресения Лазаря в Троицком, несомненно 3 четверти XVIII века. С конца 1730-х годов до начала 1780-х едва ли была возможна творческая жизнь одного мастера в ту пору, а если и возможна, то едва ли мастер творил бы в одинаковом стиле.
Этот мастер остался для нас неизвестным. Очень жаль. Он (они) создали поразительный и неподражаемый пример столичного искусства в провинции.
Глава 4. Отоловский иконостас и его родственники
Ну, теперь читателю понятно, какую боль (аж выть хочется от горя) я испытал, когда понял, что того Отолова, которое я увидел двадцать лет назад, больше нет. Его фотографии, сделанные мною (уже более поздние) можно посмотреть на карточке на нашем сайте. Здесь не буду их еще раз повторять.
Несмотря на то, что до Отолова Соболев и Бартрам не доехали (конечно, ведь они не шли специально по следу Челищева, да и храм на границе губерний был тогда очень труднодоступен), судьба подарила нам колоссальный подарок. Единственный уцелевший торопецкий храм, где сохранились хотя бы фрагменты подлинного иконостаса, оказался из пятерки самых ценных вообще. Безжалостный барабан разрушений 1920-1930-х гг. выплюнул один шарик. И шарик оказался нужного цвета. Правда, Отолово все равно оказалось закрыто уже во второй половине 1940-х годов (приходу так и не удалось полноценно оформить его как действующий храм), но оно удачно проскочило страшные 1930-е годы, а потом страдало больше от случайных грабителей, а не местных комсомольцев. Поэтому до 1970-х годов второй и третий этажи были практически целы. Потом, конечно, местные приложили руки к разорению, когда надзор стареющих и уходящих из жизни церковных бабушек ослабел.
Однако судьба опять улыбнулась Отолову. В соседней большой деревне Ворошилово, ставшей центром сельсовета, энтузиаст-самоучка Иван Иванович Смирнов создал краеведческий музей. Хотя Смирнов не был специалистом по барокко, он намного бережнее, чем «специалисты» начала XXI века, отнесся к храму. Все, что не успели сломать безжалостные сельские пацаны, ломавшие просто за интерес, он утащил в свой краеведческий музей.
К сожалению, Иван Иванович ушел из жизни в 1998 году, не дожив до шестидесяти лет. Я совсем чуть-чуть его не застал. В 1990-х он счел необходимым передать сохраненные им отоловские иконы и другие вещи обратно в отоловскую церковь. Это тогда казалось справедливо и правильно. Никому в голову не пришло бы тогда, что именно приход и уничтожит церковь как исторический памятник.
Ремонтировавшие интерьер иконописцы (якобы «студенты московского художественного училища», но, на самом деле, вот эти персонажи) искренне хотели сделать хорошо, но не поняли, что перед ними не просто «иконостас в стиле барокко», а единственное такое сооружение в России, со сложной структурой, со своим и единственным в своем роде замыслом. Не поняли они и не сочли нужным сберечь всю мелочь, доставшуюся им. Не знали и не поинтересовались, какими ремеслами владели и как работали мастера, которые делали это изделие. Не поняли, что перед ними – огромная театральная сцена, а вовсе не обычный иконостас.
Они (ну и настоятель, конечно, в первую очередь, который заказал им работу) подошли к иконостасу с позиции: «мы знаем, как надо». А «надо» – исправить «неканонические» нарушения. И они их исправили. Там же, где «реставраторы» просто не умели реставрировать, они сочли возможным сделать сами «более лучше».
Само по себе дать студентам такой объект – это все равно, что позволить реставрировать фрески Ферапонтова местному техникуму – малярам или строителям. А что? Близко живут и возьмут дешево. Ну, а фрески… Финалом будет фраза: «Они попытались. Они сохранили, сколько могли». Ровно эту фразу, без сослагательного наклонения, я услышал от настоятеля Отолова в 2016 году, когда все было кончено.
Как вдолбить в наши православные уши, что «каноны» по отношению к русскому искусству всех веков – это нонсенс? Что «канонического православного искусства» не бывает. Что то, что кажется нам «каноническим» - всего лишь застрявший из-за старообрядческого раскола дольше, чем ему следовало, стиль конца XVI - первой половины XVII века…
Уровень познаний отоловских «реставраторов» об искусстве барокко был крайне низок. А желания узнать не было. Иконописцы даже не знали, что оригинальные цвета отоловского иконостаса – белый, красный и золотой. Хотя уж это можно было прочесть в метрике Академии Художеств 1880-х годов, которая хранится в Петербурге в Российском историческом архиве и которую в те годы можно было бесплатно (!) распечатать по первому запросу с улицы (сейчас бы они делали так!).
Иконостас в итоге стал зеленым и утратил весь свой оригинальный, вручную разделанный левкас. Фантазийные «канонические» деисусы с совсем другим составом икон появились вместо искусно подобранных, многофигурных образов. Не вернулись на свои места в навершии иконостаса полнофигурные статуи святых. На месте некоторых икон вообще ничего не появилось – там теперь пустые зеленые поверхности. Двое царских врат 1760-х годов, одни из которых сохранились полностью, а другие фрагментарно, на свои места не вернулись и заменены современными с другой, прямо скажем, грубо золоченой и неоправданно измельченной резьбой, не сочетающейся с общим ансамблем. Хотя, казалось бы – всего-то было скопировать. Но нет. И того не смогли.
Вместо единственного в России интерьера появилось… ну, так себе нечто. Чтобы вернуть ему историческую ценность, храм теперь нужно весь заново переделывать. И эта реставрация будет, увы, уже новоделом.
Если собрать сведения об Отолове, которыми мы располагаем, получим примерно следующее.
Работа над иконостасом началась, вероятно, вместе со строительством храма – в середине 1750-х годов. К 1767 году она была завершена, и были освящены четыре престола: два в нижнем этаже (Ильи пророка и Нила Столобенского), и два в верхнем (Троицкий и Никольский). Попарное расположение приделов с центральной композицией, не являющейся алтарной, встречается в торопецких памятниках еще только в Старине, которая как мы помним, тоже храм Ивана Сергеевича Челищева. Но, конечно, там такое делалось уже после Отолова.
Это неудивительно, учитывая, что в Отолове Челищев жил, в Торопце он вложился в храмы, как-то связанные с его семейством, а в Троицком лишь украсил дополнительным рядом и резьбой главный иконостас и устроил придел, придел, на самом деле, очень маленький. Старина была тоже челищевским владением, но периферийным. Храм, в который серьезно вложился второй сын Челищева Алексей Иванович, рядом с которым он жил, был в другом селе – в Бенцах (там, увы, старого интерьера или не было, или его не сфотографировали).
Лепное убранство в Отолове было сделано в обоих этажах. К освящению были изготовлены два иконостаса. В нижнем храме, как явствует из метрики, иконостас был алого цвета с золотыми деталями (алого! как потом в Старине!), а в верхнем – белого, и тоже с золотом. Пышно убрана была и лестница на второй этаж.
Как особое помещение пространство будущего Успенского придела задумывалось сразу. Оттуда открывается лучший вид на иконостас, и я уверен, что ради этого вида было решено оформить окружающее окно причердачное пространство. Челищев, как мы помним, завещал устроить там придел, но потомки с этим приделом не очень торопились, затянув исполнение завещания на пятьдесят лет. Но все-таки устроили.
Не исключено, что в этой барской ложе на чердаке изначально стояла какая-нибудь скульптурная композиция. И только там (!) появилась единственная стенная живопись, точнее, не живопись даже, а рисунок, сделанный в технологии XVIII века, темной краской прямо по кирпичной обмазке: «Спас на престоле с ангелами».
У Челищева был такой художник, мастер именно рисунка. В Песно и в Хворостьеве были иконы (в Песно - центральная Владимирская Богоматерь), написанные особым образом.
А именно: иконная доска грунтовалась, грунт серебрился, и по этому серебряному фону писались сюжеты «черным контуром с мелкой растушевкой», как их характеризует Соболев. В Хворостьеве в деревянной церкви так были написаны огромные архангелы на диаконских дверях, все подместные иконы (под главными иконами, у самого пола, там, судя по всему, были изображены сюжеты из притч).
Очень жаль эту деревянную церковь, дорогую барскую игрушку Ивана Сергеевича Челищева. Была она драгоценностью по тому, сколько в нее было вложено мастерства и труда. Там, несмотря на скромные внешние формы, было немало диковинок, от которых не отказались бы царские дворцы.
И иконостас ее был – чудом.
От нее и ее интерьера ничего не осталось.
Этот же мастер, что работал в Хворостьеве в 1764 году, скорее всего, и написал легкий и тонкий рисунок в верхнем ярусе отоловской церкви. Просто больше такую работу выполнить было некому.
В 2010-х годах видимо, решили, что это какая-то заготовка или подмалевок, на котором краски смылись. Поэтому рисунок безжалостно ободрали до кирпича, вместо с более поздними росписями начала XIX века – и заново все помещение наверху заштукатурили.
Стены в Отолове изначально были раскрашены в охристый, розовый с прожилками («мрамор») и зеленый цвета. «Мраморировки» были обычной частью «челищевских» храмов. Иконостас в Пятиусове тоже украшала такая орнаментальная декорация. Цвета мы пока не знаем, но, скорее всего, там, как и на стенах в Отолове, основными был розовый и зеленый.
Раскрашена была в Отолове и лепнина. Она такая же, как в Иоанно-Предтеченском храме в Торопце и сделана, скорее всего, тем же мастером.
Раскраска стен в Отолове погибла вся и теперь на иконостасах абсолютно фантазийная. Лишь лепнина, в основном, уцелела. Слабое утешение, если честно. Вместо сложной работы по выявлению первоначального колорита, своды и стены выкрашены в голубой цвет, на первый взгляд – как и было до ремонта. Но голубой, который был до ремонта – не тот химический голубой, что сейчас, он появился в результате переделок конца XIX века. Голубых дешевых красителей не было в ассортименте мастеров XVIII века. Изначально там был серовато-голубой (изначальный ли?), а под ним, как хорошо заметно, светлая охра.
Но главным в Отолове был, конечно, центральный иконостас второго этажа. Витые колонны с декоративным «плющом» (столичная штучка!) встречаются в Торопце, в основном, опять-таки в челищевских храмах, хотя не только в них. Кроме Отолова они были в Пятиусове, Песно, а в Торопце - в Воскресенском храме (интерьеры всех трех – 1760-1770-е). Оба сельских храма (Пятиусово и Песно) прямо связаны с семейством Челищевых. Скорее всего, резчики могли заниматься и другими подрядами, если их не привлекали к барским затеям.
Но привлекали постоянно.
Отоловская затея была и впрямь затейной. Самое странное в ней – центр.
Низ, вместо царских врат, занимает (и сейчас, хотя она изуродована ремонтом) резная икона «Архангел Михаил, поражающий диавола» (по гравюре с картины Гвидо Рени). Таких архангелов по России много, здесь интересен не он сам, а то, что сделан он был в технике низкого раскрашенного рельефа. Опять-таки, примеры подобные в Торопце известны. В Хворостьеве в 1770-х годах в каменной церкви были такие рельефные фигуры. Были они и в осташковских церквях тех лет. Все они не сохранились. От торопецких хотя бы фото сохранились, а изображения осташковских диковинок мне пока не известны.
В любом случае, вещи были экзотические.
Но самой большой экзотикой в Отолове была центральная ось его иконостаса.
Там была икона, состоявшая, судя по всему, только из надписи:
«Помилуй поклоняющиеся Тебе и Бога исповедающия Тя».
Вы знаете, что это такое? Я тоже не знал до момента, когда это прочел.
Это слегка сокращенный конец кондака из канона Святому Духу, написанного преподобным Максимом Греком в тюрьме в 1520-х годах – углем на стене своего подвала. Мягко говоря, текст не обиходный и не богослужебный. Сейчас он включается в некоторые сборники молитв – но так не было в XVIII веке. Тогда такое могло существовать только в рукописных сборниках.
Знакомство с этим текстом Челищев мог свести в разных местах. Отрывки из Максима Грека содержатся в рукописи «Цветник духовный» из библиотеки Ниловой пустыни (РГБ ф. 200, №99, 1706-1710 гг.). Но, как бы то ни было, это единственный пример торопецкой (да и не только торопецкой) надписи на иконостасе, тем более, столь изощренно подобранной. Не очень теперь понятно, что это было: резьба или рельеф по левкасу (скорее, второе).
Но какие же понты! Найти очень экзотическую цитату, в тот период вовсе не канонизированного и мало известного (в Торопце-то уж точно) Максима Грека, вставить цитату на совершенно непривычном – самом почетном месте иконостаса, да еще не иконой, а в такой, текстовой форме. И дать потомкам догадываться, что здесь могло бы быть изображение Святого Духа (а, скорее всего, оно и было, в виде голубя над отсутствующими по понятным причинам царскими вратами). Догадываться, но не быть уверенными.
Сам по себе такой интерес к церковным делам говорит о Челищеве и о русском дворянстве того времени многое. Не только шпагой и сердцем служили те офицеры своим императрицам. Не только тискали крепостных девок и развлекались псовыми охотами. Не только читали в отставке вечный Брюсов календарь и ели домашнее варенье, пока профессиональные «акульки» почесывали им пятки на сон грядущий. Но еще и вот это.
Можно представить себе Ивана Сергеевича, барина лет пятидесяти, где-нибудь на богомолье в свободное время обнаружившего редкую рукопись и погрузившегося в чтение. Вот глаза его зацепились за внешне корявую, но звучную фразу «и Бога исповедающие Тя». Так и этак покрутив ее в голове и сообразив ее смысл, он ходит по комнате, шмыгает носом от волнения, достает шелковый платок, убирает вновь и бормочет: «И помилуй ны… Бога исповедющия Тя... исповедающия Тя…».
Нужный фрагмент благочестиво переписан.
И через некоторое время после молебна в усадьбе в день очередного праздника, он усаживает на лавку его отоловского иерея, достает тетрадку и начинает читать, стараясь делать это с выражением. Батюшка на лавке боится даже ерзать и часто моргает.
-И сии слова считаю должным запечатлеть в храме нашем, - заканчивает вдруг Иван Сергеевич. – чтущим и слушающим в назидание. И ныне, и присно…, - глаза его становятся влажными, - и во веки. Крупно написать, яко глас архангельский!
Где-то в воображении Ивана Сергеевича ангельские хоры подносят к устам серебряные трубы свои и невидимый сладостный хор поет высокими дискантами:
«И Бога исповедающия Тя! Исповедающия! Исповедающия! Исповедающия Тя!»
Батюшка крестится и белеет. Он уже представляет себе донос от соседа-пономаря, который метил на его место, но был не очень честно отодвинут когда-то от настоятельской должности. Пономарь пьяница, и ему все равно нечего терять. «Как есть доложит, что разрешаю на иконостасе писать неизвестно чьи слова… барским затеям потакаю. А как не потакать? Как? »
-А с Его Преосвященством вопрос я решу самым лучшим образом, - слышит он вдруг сквозь стучащие барабаном виски.
И внезапно кровь отливает куда-то вниз, и невидимый сладостный хор возглашает густыми басами:
«Помилует поклоняющиеся Тебе, поклоняющиеся Тебе, Тебе, Тебе Боже наш!»
И батюшка уже облегченно и с чувством крестится.
Марфа выносит поднос с рюмочкой, что означает окончание аудиенции…
Излишне говорить, что при «реставрации» оригинал иконы-надписи был заменен на грубо выполненную копию на зеленом фоне. Надпись неверно переписана и сдвинута вниз. Утрачены и не восстановлены и все другие детали этой композиции, которые наверняка были, но которые теперь потеряны навсегда.
Сверху располагалось то, что современные «реставраторы» вообще не узнали. Там была композиция, подобной которой под Торопцем больше не сохранилось. И в плане технологии ее изготовления, и в плане сюжета.
От нее, кстати, сохранялось до ремонта много, но, как и везде в Отолове, после ремонта смотреть нечего. Убито было самое интересное.
Поэтому смотрим старые фото.
Ну и что, скажет искушенный читатель? Вроде все узнается: вот апостолы, вот Богоматерь, сверху два ангела были, но следы от них ясно читаются: типичное «Вознесение».
Да, это «Вознесение». Аналогом нашей иконографии будет «Вознесение» из села Троицкого (в центральном иконостасе). Стиль живописи и место этой иконы в Троицком рядом с «Сошествием Святого Духа», указывает, что перед нами икона 3 четверти XVIII века, то есть времени расцвета храмоздательной деятельности Ивана Сергеевича Челищева – и его заказ. Икона из Троицкого позволяет реконструировать Отолово. Вверху место, оставленное под карнизом, должна занимать фигура Христа «на облаце легце». Облачко, кстати, сохранилось. Именно под фигуру Христа задуман грандиозный лепной декор свода с двумя парами ангелов, развертывающих небесный полог. Именно под эту композицию открывает «объятия Отча» Саваоф в замке центрального купола.
Да, но где же сам Христос?
А вот его нет. Увы, эта фигура утрачена была еще очень давно, и ее не упоминает ни Иван Иванович Смирнов, ни Галашевич, который, по идее, видел еще иконостас Отолова со статуями апостолов и святых, стоявших по карнизу иконостаса.
Таким образом, иконостас Отолова был устроен как театральная сцена, на которой разыгрывался единственный, но вечный акт великого божественного театра. Собственно, обыгрывались события появления Новозаветной Церкви, праздник Пятидесятницы, которому храм и посвящен. Вверх уходит Христос, оставляющий «Утешителя иного» своим ученикам. Внизу, как водится, в мире идет вечная борьба добра со злом, которую символизировал поражающий врага воинственный архангел. Великолепный ряд статуй в полный человеческий рост стояли по карнизу иконостаса, конечно, по подобию таковых в великих католических соборах, но не слепо копируя их, а осмысленно воспроизводя идею свидетельства и заступничества святых перед Богом за людей. Места для самих людей, прихожан, тут, кстати, практически нет, они все остаются в пространстве притвора, за простенком. Им остается только войти в уголок перед теми или другими царскими вратами, вкусить таинство Церкви – и выйти.
Но есть одна точка – окно на западной стене на уровне балкона, с которого можно увидеть все это с лучшей точки, «точки Бога». Великая мистерия требует зрителя. Только одного, самого Челищева. Точка эта очень тщеславная: ему видно все, а людям внизу – почти ничего, войдя в храм, они сразу лицом к лицу встают перед иконостасом, который потрясает и подавляет. Им тут только причаститься и уйти. Стоять им на службе положено в довольно изолированной от центрального объема трапезной, из которой им мало что видно, а их не видно вовсе - в божественную мистерию вмешиваться не подобает.
Не исключено, что наверху, с уровня третьего этажа, был изначально и балкон, и сзади, где позже был придел, располагался вход на него. Балкон тут просится и балкон был на аналогичном месте сделан в челищевском же Пятиусове. Может быть и в Отолове был такой же или был задуман как часть будущего замысла Успенского придела. Этого мы достоверно не знаем. Храм требовал бы в этом отношении внимательного дополнительного изучения.
А его, как вы понимаете, не было.
У меня есть еще одна гипотеза насчет отоловского Вознесения. Дело в том, что есть (вернее, было) одно чрезвычайно важное "Вознесение" в русском искусстве того времени - это "Вознесение" на своде церкви Воскресения в Царском Селе, написанное Джузеппе Валериани к 1756 году. Оно погибло уже в 1820-х годах, но как раз когда создавалось Отолово, оно очень даже было живо. Царскосельский потолок воссоздан в XIX веке после пожара - близко к старой иконографии (окончательно погиб в 1941-1944 годах).

Заметно, что отоловская иконография "Вознесения" чуть-чуть не такая, но очень похожая. Не могла ли она следовать первоначальному варианту Валириани?
Эта гипотеза требует внимательной разборки.
Замечательна технология, которой вся эта красота была сделана.
Лица апостолов в «Вознесении», как мы видим, сохранились неважно, и тут дело не в вандалах, а в том, что подобная вещь хрупкая сама по себе.
В челищевских приходах (во всех) золочение иконостасов и изготовление таких фигурных икон было поставлено на высокий уровень. В Хворостьеве, например, существовали две фигуры со старого иконостаса каменной церкви, из которых ангел настолько похож на персонажей из отоловского «Вознесения», что можно уверенно сказать, что их делал один человек (хворостьевские чуть позже – на рубеже 1760-1770-х гг.). Основную плоскую резьбу одежд делал резчик, иконописцу оставалось покрыть левкасом личнОе - руки и лица, а затем уже прописать их красками.
Несколько ликов, которые сохранились от композиции «Вознесение», показывают, что справился иконописец с задачей мастерски. Видимо, такой же лик на специально нанесенном левкасе был у отоловского архангела Михаила, поражающего диавола, но он был поврежден в советское время, а сейчас полностью уничтожен и заменен на условно написанный в «васнецовском» духе. Не исключено, что левкас на ликах слегка формовался, для придания минимального рельефа и большего живописного эффекта.
В те времена золоченый фон иконостаса редко оставляли просто так. Правда, так было в Хворостьеве в деревянной церкви (на фото хорошо видны аккуратным веером расходящиеся следы наклеенных листиков позолоты). В Хворостьеве на этом золотом фоне эффектно выделялись серебряные с чернью композиции.
Разделанный левкас в Отолове был другой фирменной чертой его иконостаса.
Если такого не было, то на левкас или на подкладку из красной охры наносился рисунок – цветы и барочные венки, скорее всего, по каким-то лекалам, с доделкой уже рукой. Потом делалось золочение, но красноватый рисунок просвечивал из-под него и поэтому выделялся на золотом фоне.Кроме золочения, на левкас в Отолове наносился еще какой-то колер, совершенно изменивший цвет к концу XX века. В итоге перед концом он имел черно-зеленый оттенок. Скорее всего, это были свинцовые белила, как раз так, к сожалению, ведущие себя в неблагоприятных условиях. На этом белом фоне и была золотыми буквами нанесена рельефная лепная цитата из Максима Грека. (Сейчас фон зеленый, что, конечно, шибко «канонично», если считать «каноном» мнение, что все троицкое – зеленое, но абсолютно искажает первоначальный замысел).
Работа была тонкая и трудоемкая.
Отоловский иконостас, при всей его уникальности, не был самым изысканным в этом отношении. Например, в Пятиусове около 1765-1766 гг. по левкасу были нанесены «прожилки», имитирующие мраморировки, а более узкие панели иконостаса украшал травный декор.
В Троицком (вставки в иконостас 3 четверти XVIII века) левкас также украшал тонкий (тоньше, чем в Отолове) декор из трав и цветов.
Сложное, рельефное формование левкаса, мы видим на старых фото иконостаса в Пятиусове и Песно (до 1775 г.).
Если в Отолове и Троицком мастер в основном просто резал левкас, то в Песно и Пятиусове он его формовал под позолоту. Отоловское произведение было едва ли не самым простым и, возможно, первым, где подобная технология была опробована.
В Торопце и Осташкове 2 половины XVIII века мы встречаем многочисленные свидетельства развитого искусства лепки и резьбы по левкасу. Причем мы точно знаем, что мастера были местные. По осташковским работам в 1760-1770-х годах известно, что они были осташами.
«Отливка» была делом достаточно сложным технологически и дорогим – но престижным. Такие иконостасы заказывала в 1760-х годах Нилова пустынь.
Видимо, и приходы старались не отставать. До наших дней сохранилось одно, самое позднее такое произведение – лепные панели в главном иконостасе села Верхние Котицы (около 1800 года). Котицы – не центральный памятник осташковско-торопецкой школы. Но даже по нему видно, как высоко стояло это ремесло.
В Отолове «реставраторы» «не шмогли» повторить не самую изощренную работу мастера XVIII века. Просто счистили весь левкас вместе с рисунком, закрасили современной зеленой краской. Последующая затем позолота – ниже всякой критики.
Что ж. Слава крепостным мастерам Челищева, имен которых, к сожалению, мы не знаем – а они вправе быть в анналах русского искусства.
А имен нынешних «мастеров» и знать не хочется.
Тьфу.
Куда мы катимся…
Глава 5. Гавриил Дерябин и другие
Не стоит, конечно, думать, что все торопецкое барокко – это один Челищев и его крепостные мастера. Кроме него тут было кому вложиться деньгами в пышное строительство. Челищев, конечно, видел многое, многое хотел и мог, и понимал толк в искусстве. Но помимо него были и еще люди, бывавшие в Петербурге и готовые принести в свою провинциальную жизнь всякие столичные новинки. Кроме дворянства никуда не девалось в середине XVIII века торопецкое купечество. Традиционно более консервативное, чем дворянство, это сословие в Торопце с едва ли меньшим энтузиазмом бросилось в 1750-х годах устраивать новые интерьеры в своих городских церквях.
Церкви в Торопце строятся в середине века как грибы после дождя.
Дело в том, что середины 1720-х до начала 1750-х годов Торопец и его уезд переживают времена, когда строительство и украшение церквей почти не велось. Есть ощущение какого-то тайм-аута, будто город собирал силы, расслабленно выжидал какого-то момента.
Показательно, что церковь Рождества Богородицы, заложенная в 1742 году, до 1757 года не была выведена дальше фундамента. В Благовещенской церкви, заложенной в 1742 году, в 1745 году был освящен только нижний Исаакиевский придел, а верхнюю церковь строить перестали; возобновили только в 1755-м, а освятили - аж в 1760 и 1775 годах (последняя дата (ее сообщает Н.Н. Соболев) - видимо, постройка колокольни и южного придела). И так далее.
И вдруг как будто случилась невидимая отмашка – и начинаются двадцать лет строительной лихорадки.
Пожар 1758 года не превращается в препятствие, а, наоборот, вызывает бурную, прямо-таки бешеную строительную активность.
Это каменное строительство уже новое, на новый лад, с новым плоским декором, тем самым, который будет назван в наши дни «торопецкое барокко». Каменщиков хватало. Работало одновременно несколько артелей, и, честно говоря, трудно выделять работы конкретных мастеров. Непонятно даже, чьи эти мастера – приглашенные осташковские или свои торопецкие, так похожи в эти годы новые церкви в соседних уездах. Скорее всего, город заказывал любых мастеров, которые могли строить по «присоединенным к планам рисункам». Это еще одна особенность: торопецкое барокко проектное. Некоторые храмы делались явно по одному и тому же чертежу, другие – по рисунку каких-то столичных построек, рисунку, конечно, не всегда точному. Некоторые строились потом по памяти, если заказ поступал строить по «образцу» того, что уже было построено недавно. Наконец, в нескольких случаях (в Богоявленской, Богородицерождественской церквях Торопца) мастера просто позволили себе творить, уже не ограничиваясь чертежами. Эти постройки, как мы понимаем, лучшие. Но имен мастеров мы все равно не знаем. Большинство их несомненно были помещичьими крепостными крестьянами.
Невероятно, как мастера успевали везде, ведь стройка велась по селам, каменщиков привлекали к отдаленным заказам, в сравнительно далекую Нилову пустынь. К старым торопецким храмам пристраиваются колокольни, среди которых был еще один утраченный шедевр Торопца - колокольня Михайло-Архангельской церкви с часами и церковью Нила Столобенского в нижнем ярусе (1770-е).
Торопецкое иконописание 3 четверти XVIII века представлено несколькими именами мастеров. Их мы можем хорошо представить себе по торопецким переписям.
К 1750-м годам окончательно уходит поколение иконописцев старой школы, работавших в традициях Оружейной палаты. Эти люди понимали толк в тщательном, старинном письме. Но новое время требовало новых икон и новых техник. Писать надо было быстро, много и, при этом, как в столице. Знаменем нового торопецкого иконописания стал Гаврила Григорьевич Дерябин.
Что мы о нем знаем?
Переписная книга Торопца 1710 года (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8181. Л. 76) сообщает нам о его отце, числящемся торопецким стрельцом:
«Двор Григорья Дерябина, а служит в Торопце».
Переписная 1710 года:
«Торопецких стрельцов дворы…
«41. Двор Григория Дерябина, во дворе он Григорий, 29, брат Микита 16, а служат в Торопце, да мать же вдова Стефанида, 80, у Григория женя Дарья 23, сын Сава 2 лет».
В 1723 году (Николев, Найденов. С. 128):
«Из гарнизонных солдат… Григорий Савин сын Дерябин 35. У него сын Сава 12 лет. Торг имеет на 302 руб. Живет в Потоховой улице».
Переписная книга 1750 года сообщает данные второй ревизии 1745 года:
«1837. Ум(ершего) Григория Савина сына Дерябина дети Савва 33, Гавриил 19. У Саввы дети Тимофей 7, Афанасий полугоду». (Николев, Найденов. С. 149)
Наконец, в 1763 году:
«Савва 51 и Гавриил 37 Григорьевы дети Дерябины. У Саввы жена Марья Васильева торопецкая купеческая дочь, 44, у них дети Тимофей 25, Афанасий, 18, дочь Марья 12. У Гавриила жена Екатерина Васильева, 29, Николаевского торопецкого монастыря священническая дочь, у них дети Антон 10, Федосей 1, дочери Пелагея 4, Марья 2». (Николев, Найденов. С. 197)
За этими строчками – жизнь семьи, не из коренных жителей города, но хорошо устроившихся в Торопце и со временем вошедших в число среднего торопецкого купечества. Стрельцы в Торопце жили особой слободой, и их храмом была Казанская церковь. Судьбы у них складывались по-разному. Кому-то приходилось мотаться по дальним гарнизонам, служить в Копорье и других городах завоеванной Прибалтики, но кто-то – а таких было явное меньшинство – остался в Торопце. В числе последних мы видим и отца Гаврилы и Саввы Дерябиных Григория Саввича. Он удачно никуда не выезжал из города всю Северную войну, понемногу приторговывал, пользуясь служебным положением, и чем дальше, тем успешнее. Для очень многих торопчан уделом была мелочная торговля с крошечными оборотами в 2-5-10 рублей в год. Дерябин был на их фоне богатым человеком. Да, он не мог сравниться с Туфановыми, особенно с Гаврилой Гавриловичем, годовые обороты торговли которого превышали три тысячи рублей (Николев, Найденов. С. 58), но его триста рублей – это в десятки раз больше, чем доходы основной части торопецкого городского населения.
Восемь семей солдат торопецкого гарнизона (и в том числе Григорий Дерябин) в 1724 году записываются в торопецкое купечество. Все они пишут свой годовой доход от 301 до 304 рублей. Все они, явно, держатся вместе и заодно. Это такой сплоченный коллектив отставных «военных пенсионеров».
Дерябины отныне – устойчивая середина торопецкого купечества, даже повыше середины. И вот в этой достаточно благополучной семье появляется иконописец.
Просто так уйти в эту далеко не самую прибыльную сферу, не родившись в семье иконописца было невозможно. И причину поворота его биографии мы, кажется, можем вычислить.
Дело в том, что Гавриил Дерябин работал не один. Из его коллег один оставил о себе довольно много следов, хотя, кажется, сейчас не известно ни одного его произведения.
Начнем с записи в записной книжке Н.Н. Соболева:
«У левого клироса Успенской церкви «Богоматерь Знамение» – Василий Семевский, 1771 год».
Что мы знаем о нем?
Знаем из записных книжек Н.Н. Соболева. Василий Васильевич Семевский (иногда пишут Семивский), никольский священник. В 1782 году пишет образа для церкви погоста Кочевицы, в 1780 году – для Корсунского собора.
Семевские - торопецкие посадские люди. Бедные. Живут в приходе Никольской церкви.
1710 год: «25 Иван Михайлов сын Семивский 48, жена ево Авдотья 38 лет, сын Алексей 8 лет, черная работа»
1723 год: «53 Иван Михайлов сын Семивский 57 у него сын Алексей 23, двор длиннику 17 ½ сажен поперешнику по улицы пол-осми сажен, торгует всякими разными товарами, покупая в Торопце и в других городах по 10 руб., а продавая оные в Торопце же и уезде, а сын ево Алексей имеет мастерство иконного писания, живет в Ивановской улице при церкви Николая чудотворца».
Какой-то их родственник – Василий Семевский, священник Никольского монастыря. Вот его родители:
1710 год. «32. ˂Торопчане, живущие˃ на земле Рождествена девичья монастыря.
Корнила Иванов сын Семивский 60 его жена Иринья 43, детей два сына Василий 12, Андрей 2, дочь Афимья 16».
В 1723 году:
«Корнила Иванов сын Семивский 72, у него сын Андрей 20, двор его на монастырском Николаевском месте…, питаетца черною работою… живет в Никольской улице в приходе церкви Преображения, жена ево Иринья Васильева дочь» (Николев, Найденов. С. 88).
Василия уже нет в переписи среди посадских. Он к ним не относится. Узнаем из примечаний к переписи, что он… подался в стрельцы, а вернее (стрельцов на Руси уже нет) - в «салдаты». Василий Семивский «торопчанин посадский человек», по полюбовному договору в 1719 году «обменялся служить полковую и городовую службу» вместо солдатского недоросля Ивана Ползунова, который записался вместо него в посад. (Николев, Найденов. С. 119)
Сын этого Василия и стал, похоже, священником Никольской церкви и иконописцем. Точно мы сказать не можем, поскольку опубликованные документы на этот счет ничего не говорят. Но других Семевских в Торопце в это время нет.
Но как интересно сходятся даты и места!
Алексей Семевский, человек небогатый, но все-таки и не нищий. Единственный иконописец в городе подходящего возраста в 1740-х годах (ему должно быть около сорока лет, детей своих нет – время брать ученика). Но ученик берется не с улицы, не любой талантливый мальчик (такие наверняка были). Нет, он берется из семьи Дерябиных. Эти две фамилии – Семевские и Дерябины - в это время уже прочно связаны – дружбой, работой и, похоже, родством.
У Гаврилы Дерябина супруга – Екатерина Васильевна, «Никольского монастыря священническая дочь». Она должна быть примерно 1734 года рождения. Год рождения Василия Васильевича Семевского, священника Никольской церкви, точно не известен, но он работает активно в 1760-1780- годах, так что он родился где-то в 1735-1740 годах. То, что Екатерина – сестра Василия Васильевича Семевского – почти не подлежит сомнению. Если Екатерина и Василий Семевские – не брат и сестра (хотя все говорит за это), они все равно близкая родня. И связывает их воедино, кроме прочего, иконное ремесло и - Гаврила Дерябин.
Гаврила Дерябин – сын стрельца. Василий Семевский – сын солдата, причем такого солдата, который сам выбрал солдатскую службу. «Городовую» службу - это отнюдь не в рекруты пошел. По-нынешнему, скажем так, он добровольно пошел служить в «органы внутренних дел». А в тогдашнем тыловом Торопце это была не особенная тягота, позволявшая зато избежать налогов («тягла»), которые брались с посадских. Выбрал он службу в те годы, когда его начальником и старшим товарищем неизбежно становился… Григорий Дерябин, отец иконописца. С уходом со службы Григория Дерябина очень логичен и уход в духовное сословие Василия Семевского-старшего.
В общем, семейное дело Семевских-Дерябиных – налицо.
Итак, допустим, отданный в обучение к Алексею Семевскому, Гаврила Дерябин к своим двадцати пяти годам в целом освоил это ремесло, а дальше судьба его повернулась довольно неожиданно.
«Д е р я б и н (в книге Дерятин, но это ошибка – П.И.) Гаврила Григорьев - «сын города Торопца купецкого человека». В 1753 г. вызывается Перезинотти для живописных работ в Царское Село». (Молева Н.М. Белютин Э.М. Живописных дел мастера. М., 1967. С. 115)
«Спустя десять лет (в 1753), когда набираются мастера для работ в Царском Селе, в их списках фигурируют «Иосифова монастыря Ржевского уезду крестьянин» Григорий Еремеев Уткин, «в Нове городе Хутыня монастыря служитель» Панкратий Степанов сын Гангаев, «города Торопца купецкого человека Гаврила Григорьев сын Дерябин», «Иверского монастыря живописец Астафей», «города Твери архиерейского дому служитель Дмитрий Радбоев» и другие, которые вызываются с основного места своего жительства». ЦГИАЛ, ф. 487, оп. 12, 1753 г., № 182, л. 3. (Молева Н.М. Белютин Э.М. Живописных дел мастера. М., 1967. С. 182)
Работы в Царском Селе в эти годы – это не только дворец, но и дворцовая церковь Воскресения, к созданию которой приложили руку Савва Чевакинский и Франческо Растрелли. Основные работы по написанию икон легли на известное осташковское семейство Колокольниковых, собственно, знаменитых Мину и Федота. Но кроме них участие в создании живописного убранства личной церкви царицы приняли еще полтора десятка человек, каждый из которых – важное имя в истории местной художественной школы. Григорий Уткин – старший сын великого Еремея Уткина, расписавшего свод Воскресенского собора в Осташкове. Судьба Уткиных очень напоминает судьбу Дерябиных. Это тоже были зажиточные люди, а дед Уткина, Игнатий, был успешным торговцем в Осташкове. В отличие от них, новгородские и тверские живописцы были людьми бедными. Дмитрий Радбоев-Крыжов принадлежал к старой тверской династии иконописцев, едва ли не единственной, которая сохранилась в запустевшей Твери в конце XVII -начале XVIII вв. Это многочисленное семейство числилось на окладе у тверского архиерея, который подкармливал полезных мастеров. Вероятно, похожее положение было у его новгородского и валдайского коллег.
Дерябин и Уткин выгодно отличались от них – как своим положением, так и средствами, что позволяло им вести себя достаточно независимо. Хотя оба были молоды. Им обоим, на момент работы под началом Антонио Перезинотти было примерно двадцать пять лет.
И для обоих работа в Царском Селе стала блестящей рекомендацией и началом успешной и длительной карьеры.
Гавриил Дерябин вернулся в Торопец в том же 1753 году и активно включился в работу.
Уже в 1754 году он обновляет и пишет ряд икон в соборе Небина монастыря. (Щукин. В. Троицкий третьеклассный мужеский монастырь в городе Торопце Псковской епархии 1896. С. 8 и 10, была надпись на Тихвинской иконе)
В августе 1755 году он поновляет храмовую «Троицу» в Пятиусове (записные книжки Соболева).
В 1759 году он пишет иконы в главный иконостас Преображенской церкви в Торопце (Щукин. С. 457).
В 1762 году пишет сразу несколько ответственнейших икон:
Для Ордынской пустыни 30 октября по заказу Семена Жукова образ святителя Димитрия Ростовского. И сразу же - для торопецких купцов Абакуновых в новопостроенную ими Преображенскую церковь в Осташкове образ преподобного Исаакия Торопецкого. Последний труд он заканчивает 31 декабря, чтобы через неделю новый образ уже стоял на месте, и 6 января 1763 года состоялось освящение этого храма. (Успенский В.П. Очерк Осташкова. Памятная книжка Тверской губернии. 1863. С. 130).

С осени 1764 до мая 1765 года пишутся основные иконы нижнего ряда Успенской церкви в Торопце, построенной на средства купцов Антоновых (Щукин. С. 458). Иконы из этой церкви «Господь Вседержитель» и «Богоматерь с Младенцем» написаны в мае 1765 года, храмовое «Успение» (в записных книжках Соболева неправильно - «Рождество Богородицы», фотография эту ошибку исправляет) – в сентябре 1764 года.
Часть икон писалась и позднее. Образ «Софии Премудрости» был датирован сентябрем 1767 года. В Успенской церкви Дерябин пишет, по заявлению Щукина, весь иконостас, но точную дату этой работы установить трудно (завершен к 1768 году).
Дерябин пишет иконы и для Воскресенской церкви: ее главный престол после капитального ремонта освящен 8 октября 1766 года. Иконы писались, видимо, долго, как и ремонт самого храма после пожара, начавшийся в 1759 году и затянувшийся на семь лет. В 1762 году был освящен придел Петра и Павла, выстроенный заново как целая небольшая церковь. При Н.Н. Соболеве и Н.Д. Бартраме старые подписные иконы имелись в главном иконостасе: Иоанна Богослова (7 мая 1763 года), «Богоматерь Живоносный Источник» (была завершена 30 сентября 1766 года).
В 1770 году Дерябин выполняет заказ для Ниловой пустыни (серию икон). Дальше мы о нем не знаем, хотя, в общем, поднять ревизские сказки, наверное, можно.
К своим тридцати семи годам, когда он описан в третьей ревизии как счастливый (надо полагать) отец многочисленного семейства и обладатель большой мастерской, он – лучший в городе иконописец, автор и соавтор сотен произведений. Из которых сейчас в городе Торопце сохранилась (условно) только одна - вот эта:
В 1753 году до этого было еще очень далеко. Едва ли мы ошибемся, если допустим, что разнарядка прислать мастеров в Царское Село была воспринята в Торопце без энтузиазма.
Алексею Семевскому было уже сорок семь лет, путь не близкий, исход непонятный. Вот он и решил послать подмастерье.
Дерябин поехал.
Как выяснилось столетия спустя - за своим местом в русском искусстве.
Невероятное ощущение: будто слышишь, как мелют жернова времени. Гавриил Дерябин остался в русском искусстве только этой одной своей первой работой, которой он, конечно, гордился, но которая вряд ли является его шедевром.
Но именно за нее его имя поминали на презентации, посвящали ему статьи – в немыслимых для него 2019-2020-м годах.
Когда открывали с помпой и визитом первых лиц государства воссозданный интерьер Воскресенской церкви в Царском Селе, одним из «гвоздей» события было «Исцеление расслабленного», написанное Гаврилой Дерябиным - одна из немногих икон этой церкви, выжившая в пламени войны. Вообще уцелели еще три полотна, но многофигурная – только эта. Дерябин оказался совершенно неожиданно связующей нитью, памятью, связующей довоенное, дореволюционное, легендарное старое Царское Село и современный роскошный музей-заповедник в пригороде огромного мегаполиса Петербурга.
Вот слава выпала подмастерью из Торопца!
Кстати, об иконе «Исцеление расслабленного». Олег Ростиславович Хромов совершенно верно указал сотрудникам музея-заповедника «Царское Село» на источник ее иконографии. Конечно, это Вайгель, тут, как говорится, и к гадалке не ходи. Но… Вайгель к тому времени уже полвека в ходу у иконописцев. Староват несколько образец, а ведь церковь в царском дворце!
Это понимали и тогда, и, конечно, в иконе Дерябина не только Вайгель.
Развернутый по вертикали сюжет имеет сверху архитектурную декорацию и полог-велум. На него нам рекомендовано не обращать внимание: «…Исключением является лишь то, что в связи с удлиненным вертикальным форматом картины в ней увеличена верхняя часть и введена декоративная завеса, – говорит начальник Отдела научной литературы и библиографии ГМЗ «Царское Село» Наталья Коршунова». Как мы понимаем, торопецкий мастер-иконописец XVIII века в принципе не был способен такое придумать. Он и не придумал. В арсенале любого иконописца тех лет была практика механического переноса одной части гравюры в другой или (это высший пилотаж), куска одной гравюры в сюжет на основе другой.
Вот в нашем случае последнее мы и видим.
Велум, конечно, ужасен. Он вообще не висит, он существует в безвоздушном пространстве. Есть ощущение, что потом, после создания картины, какой-то добрый человек, скорее всего, Перезинотти, приписал на картину кольца и веревки, чтобы хоть как-то придать висящей в пустоте материи подобие массы.
Вообще, в Библии Вайгеля 1695 года есть и велумы, и пологи, но эта библия не обильна такими деталями. Зато такие прихотливо висящие под сводами тряпочки в изобилии живут в другой иллюстрированной библии, гораздо более новой (1740-1750-х гг.) и в ту пору знаменитой – Библии Филиппа Килиана. О ней речь уже шла, гравюра «Сошествие Святого Духа» из этой Библии была образцом иконы царских врат Покровской церкви в Торопце. Кстати, очень похожий (хотя не дословно повторяющий царскосельский образ) полог есть именно в килиановском «Сошествии Святого Духа».
Эта изобретательность в составлении «своего» сюжета, как можно предположить, и составляла мастерство иконописца. В Царском Селе Гаврила Дерябин еще очень неловок в этом искусстве, и работа на таком заказе стала для него хорошей школой.
Сохранившееся фото иконы «Богоматерь Живоносный Источник» из Воскресенской церкви показывает, что в вещах 1760-х годов Гавриил Дерябин уже хорошо владеет своим ремеслом. С большой, «населенной» многочисленными персонажами, композицией он справился.
В третьей четверти XVIII века в Торопце многие безработные молодые люди брали в руки кисточки и начинали заниматься украшением чрезмерно умножившихся каменных церквей. Где и у кого они учились – мы не знаем. Но, скорее всего, они входили в мастерскую Дерябиных-Семевских, а затем начинали уже работать самостоятельно. За это говорит, например, то, что их произведения находятся в тех же храмах, где работали мэтры.
Например, часть икон для Воскресенской церкви были написаны неким Корнилием Сочневым в 1766 году (в записных книжках Соболева записано: «Воскресенская церковь… другие образа подписаны: «писал Корнила Сочнев 1766».
По переписям узнаем, что Сочневы – беднота, хотя из коренных торопчан, двор их был когда-то на острове с торопцкой крепостью, а про их предка, Давыда Тимофеева сына Сочнева написано в 1710 году: «промысел торговый отъезжей» (Николев, Найденов. С. 18). Два сына, Борис и Лукьян, унаследовали отцовский промысел, но удача улыбнулась только Лукьяну, который в 1723 году стал ратманом в торопецком магистрате, торговал на 100 рублей в год и жил в приходе Воскресения Христова в Юнцовом переулке (Николев, Найденов. С. 60). А вот детям Бориса пришлось плохо:
В 1723 году:
«˂Торопчане˃ написанные в 1710 году на своих местах, а после того оскудели и обеднели и дворов своих, а другие и мест, лишились, и ныне живут в своих дворах на наемных местах, и без найму, а протчие в чужих дворех на наемных местах, а именно:
Алексей Борисов сын Сочнев 23, у него брат родной Назар, двора и места собственного своего не имеют, живут в Торопце меж двор, торгуют всякими мелочинными товарами, покупая в Торопце и в других городах на 5 рублей… живут меж двор в приходе церкви Воскресения Христова». (Николев, Найденов. С. 79).
В 1745 году (данные второй ревизии в переписной книге 1750 года):
«758. Алексей Борисов сын Сочнев 44 лет. У него сын Корнил 7 лет» (Николев, Найденов. С. 139)
В 1764 году:
«Алексей Борисов сын Сочнев 44 ум(ер в) 1748, у него сын Корнил (7) 25, дочь Прасковья 19. У Корнила жена Агафья Афанасьева 21, у них дочери Матрена 3, Ульяна 2, Марфа 1. У Корнилья ж тетка вдова Авдотья Иванова Сочнева, 53, обовд(овевшая) до быв(шей) ревизии».
Сколько и каких наследников было у Корнилия Сочнева и унаследовали ли они ремесло отца, мы не знаем. Произведения его сейчас не известны.
Еще одному (?) торопецкому иконописцу повезло иметь несколько сохранившихся подписных произведений.
Это Иван Скорлыгин.
Про него есть такая запись (где находится произведение, не указано):
«Свт. Николай», 1766, дерево, темпера, 41,5×33. На нижнем поле авторская подпись: «Писалъ се образъ торопецькой купецъ Иванъ Скарьлыгинъ 1766 года». («Реставрация музейных ценностей в СССР», т. 2, илл. 146; М. М. Красилин, Каталог-1, илл. 11. М, 1982).
Он же (?) писал в 1781 году образа для деревянного храма в селе Медведово (ныне в Локнянском районе Псковской области). (Розов Н.Г. Мир дворянских усадеб. Великие Луки, 2015. С. 176). Эти произведения, если верить описанию 2007 года, сохранились в не закрывавшемся старинном храме.
Как видим, иконописцу Скарлыгину повезло в истории. Но не повезло с родословной. Он, в своих подписях на иконах, не поставил отчества. А это важно: подходящих Иванов было среди многочисленных торопецких Скорлыгиных (именно так, через –о) несколько. Как минимум трое.
Перепись 1750 года по второй ревизии 1745 года
«Умер.(шего) Сергея Скорлыгина дети Иван большой 11, Иван меньшой 10.
...Захар Карпов сын Скорлыгин 32. У него брат родной Ларион 29, у Захара сын Иван 8». (Николев, Найденов. С. 146)
Третья ревизия 1764 года:
«Иван большой 29 и Иван меньшой 28 Сергеевы дети Скорлыгины. У Ивана большого жена Авдотья Кузьмина 26, торопецкая купецкая дочь, у Ивана меньшова жена Матрена Григорьева 24, города Велижа». (Николев, Найденов. С. 188).
«Захар Карпов сын Скорлыгин (32) 50, у него жена Ефросинья Максимова 31, солдатская дочь, у них дети Иван (8) 26, Василий 15. Ивана жена Дарья Михайлова 26, торопецкая купецкая дочь, у них дети Петр 1, Варвара 2». (Николев, Найденов. С. 189)
Были и другие Скорлыгины, чуть побогаче, но в 1723 году либо портные (вряд ли так легко можно было сменить ремесло в те времена), либо мелкие торговцы. Есть у них и Иваны в семьях, но уж очень молодые – в 1766 году им должно быть только около двадцати лет и меньше. А все-таки подпись на произведении – знак мастерства.
То, что мы можем узнать о предках «наших» Скорлыгиных и об их благосостоянии, говорит об этом семействе как одном из беднейших в городе.
Отец двух Иванов Скорлыгиных Сергей Скорлыгин, которому в 1723 году было 26 лет, имел «двор на ямской мирской земле, с которой платит пятый сноп». Жил он за городской чертой «за скудостью» и «довольствовался пашнею». Точно в таком положении, как Сергей Скорлыгин, был и Захар Карпов Скорлыгин, который вообще жил в приходе Речан в деревне Макрекове, питаясь черной работой. (Николев, Найденов. С. 106)
Однако со временем Захар Скорлыгин смог несколько поправиться и перебраться в город (Скорлыгины в середине века – прихожане Корсунского собора).
Наверняка были и другие торопецкие иконописцы, информация о которых будет еще открываться. Что стало с этими мастерами дальше? Примерно тридцать лет они могли не беспокоиться о заказах. С 1790-х годов, с постепенным запустением Торопца, им пришлось думать о переезде, смене профессии либо переключиться на массовое и дешевое крестьянское письмо.
«Веселая царица была Елисавет». Веселая, да. Но и богомольная. Церкви она любила, много их строила, регулярно участвовала в обсуждении проектов иконостасов, иные проекты отвергала, иные сама исправляла.
В ней, а также во многих придворных дамах ее окружения удивительно сочетались старомосковское воспитание в тереме со всеми мамками-нянюшками, сказками, заговорами и русскими протяжными песнями под женское рукоделье, с неуемным горячим нравом ее отца и очень живым любопытством к модному тогда европейскому, французскому по большей части, искусству. Само искусство ее царствования было этой двойственностью проникнуто.
Гаврила Дерябин приложил руку к созданию этого искусства. Можно вообразить его впечатление, которое произвел на него близившийся к завершению Екатерининский дворец в Царском Селе. Жаль, что мы ничего не можем сказать, какими словами он на все это отреагировал: писем Дерябин не писал, да и некому было их писать, дневников, само собой, не вел, эту моду в русские города занесет только лет через двадцать, воспоминаний не оставил. Даже автопортрет не написал, а ведь уже мог бы!
Но как он отреагировал делом – мы знаем!
Возвращался в Торопец уже не подмастерье. Дерябин повидал свет, он наверняка лично видел Франческо Растрелли, может, и Савву Чевакинского, да и царицу, которая отличалась свободными нравами, вполне мог видеть в домашней обстановке. Он, вернувшийся теперь в Торопец, можно сказать, большая шишка и знаменитость.
Что он привез с собой?
Это можно сказать точно: копии чертежей. Скорее всего, с оригиналов самого Растрелли.
Можно заметить, что «торопецкое барокко», а равно и «осташковское барокко» начинают свое триумфальное шествие именно с момента, когда Гавриил Дерябин появляется в Торопце, а Григорий Уткин и другие осташковские мастера возвращаются в Осташков. Возвращаются из Царского Села.
Царскосельский церковный интерьер стал для ряда местных художественных школ XVIII века примерно тем, чем был Успенский собор и теремные церкви Московского кремля для Ярославля, Ростова и Костромы во времена государя Алексея Михайловича. Влияние этого «образцового» памятника на художественную жизнь Торопца, части Новгородской и всей будущей Тверской губернии было очень велико вплоть до времен Львова и появления «русского палладианства».
Сразу несколько иконостасов очень необычных форм появляется в разных городах. Это тем интереснее, что в самом-то Царском Селе растреллиевский иконостас был «поправлен» императрицей в сторону более традиционной «стены с иконами».
А вот в провинции неожиданно появляются – и сразу букетом - такие иконостасы, будто с чертежей Растрелли. Чертежей, предназначенных для дворцов Петербурга, но в Петербурге-то как раз и не осуществленных. На них непременные полулежащие ангелы, вазоны на карнизах, нижний ряд икон в виде пышно украшенного барочного фасада в два этажа с антресолью. Апофеозом этого великолепия стала Покровская церковь в Торопце, лепная отделка и иконостас которой многими деталями напоминает неосуществленный проект Ф. Растрелли иконостаса церкви в Царскосельском дворце.
Вариант этого проекта в Торопце (северная стена Покровской церкви):
На него же ориентировался и утраченный иконостас Покровской церкви (обратите внимание на резные вазоны на отворотах).
Были и такие торопецкие иконостасы, которые ориентировались на то, что получилось в натуре в Царском Селе в 1745-56 годах. Оригинал (дореволюционное фото):
А вот Пятиусово 1766 года, давайте уж посмотрим на него целиком, сходство таково, что не требует комментариев.
Был упрощенный вариант на тему иконостаса Царского Села (Псовец, церковь освящена в 1771 году, в этом храме еще и архитектура – загадка, откуда такая взялась).
Был доделанный до верха (низ у него был явно старый, начала XVIII века) иконостас Казанской церкви (1758-1765), напоминающий развеску шпалер все в том же Царскосельском дворце.
Были, наконец, иконостасы Песно (до 1775) и Отолова (до 1767). Два эти иконостаса, в виде алтарных стен с витыми колоннами, нельзя выдумать из провинциальной реальности Торопца. Об отоловском иконостасе я уже писал, писал, как читатель, наверное, помнит, упоминал об очень необычном «Вознесении», прямо следующем царскосельскому оригиналу. В любом случае, даже если там не прямая аналогия (хотя все говорит за это) – это слишком круто для провинции, такое можно только реализовать из заготовленного проекта. Что это был за проект, еще предстоит узнать.
Одним словом, не многовато ли Царского Села для маленького Торопца?
Если по отношению к селам можно как-то списать все петербургское влияние на Челищева и его близких, то с Покровской церковью Челищев связан не был. И высокое петербургское барокко пришло сюда другим путем. Сам ли Яков Туфанов додумался добраться до Растрелли? Вряд ли. В момент строительства и украшения Покровского храма Растрелли уже не было в России. А Чевакинского? Теоретически его он встретить мог – архитектор жил в отставке в своем имении Вешки Новоторжского уезда соседней Тверской губернии. Мы, кстати, не знаем и архитектора Покровского храма, а ведь и его мог проектировать хороший столичный зодчий. Или при проектировании иконостаса Туфанов обратился к условному архиву Гавриила Дерябина? Были ли такой, что в него входило?
Одним словом, мы не знаем, кто именно из торопчан привез эту роскошь, и не понятно, что у них было - скорее всего, конечно, копии чертежей, но с авторских оригиналов.
Покровский храм мог бы (уж который в Торопце «мог бы»!) стать чудом российского масштаба. Даже утратив иконостасы и всю настенную живопись, он невероятно роскошен.
Яков Васильевич Туфанов, внук Гаврилы Гавриловича, целенаправленно собрал здесь все, что мог дать Торопец в деле храмового строительства и украшения. Лучших мастеров и мастерские. Несомненно, он спорил со своим великим дедом, который устроил здесь в монастыре один из первых каменных храмов Торопца. В Покровском храме была богатейшая лепнина, позолоченные иконостасы, левкасы которых обильно покрывает изощренный растительный узор. Здесь многофигурные иконы прекрасной работы (они используют и Килиана, и Вайгеля, и Пискатора, причем очень любопытно, что боковые «деисусы» и «праздники» - это... не деисусы и не праздники, которых бы там обязательно поместил современный, ушибленный «каноном» иконописец. Там сцены чудес и притч Христовых: точно так, как в Воскресенской церкви в Царском селе на боковых стенах). Такого в принципе нельзя выдумать - это прямая ориентация на царицыну церковь.
Ну, и архитектура тоже завозная, проектная.
Причем есть ощущение, что Яков Васильевич здесь спорил с Челищевым и вообще с дворянским Торопецким уездом. Спорил с Пятиусовым, с Отоловом, с Песно и Троицким. Мол, мы, купцы, хоть и не господа, а господам нос утереть можем. У вас архитектура заказная – и у нас. У вас лепнина – и у нас. У вас живопись по этим гравюрам немецким – да не вопрос такую же завести. У вас иконостас по столичному рисунку – и у нас. И даже больше, у нас такой, которого и в столицах нет.
Торопецкое купечество было ревниво к славе. К славе своего дворянства, к славе друг друга. Жаль, что еще в XIX веке было полностью заменено богатое барочное убранство Богоявленской церкви, созданной Федором Гундоровым, в пику Покровской церкви - туфановской игрушке. Мы теперь не знаем, чем смог тогда ответить Гундоров на этот вызов.
Покровская церковь – не единственная, известная нам, в которой чувствуется этот соревновательный дух купечества, пытавшегося создать что-то подобное «царским» церквям торопецких дворян. За десять лет до нее избыточная, даже кричащая пышность иконостаса была создана в Воскресенской и в Успенской церквях Торопца. Оба эти «послепожарных» интерьера начала 1760-х годов напоминают таковые в дворянских усадебных храмах. Но всего в них чрезмерно – и колонн, и резьбы, и скульптуры. Иконостас Воскресенской церкви откровенно перегружен всякой дорогой резной роскошью, но, если присмотреться, роскошь эта довольно однообразна. «Затей» в ней искать не приходится.
Успенская церковь была более утонченна.
Но и она проигрывает, если сравнивать ее убранство с иконостасами Песна, Троицкого, Отолова. Понятно, нам трудно это принять – до нас не дошло ровным счетом ничего, чтобы пренебрегать любым таким памятником, хотя бы даже его черно-белым фотоснимком. Но тут именно та грань, которую остро чувствовал – что уж говорить – Константин Случевский. И пусть Соболеву и Бартраму говорили в Торопце, что погибший иконостас Пожни был «похож» на иконостас Воскресенской церкви. Нет. Был похож обилием резьбы, но – не ей самой. Воскресенская церковь – купеческая дочь, а в Пожне была – боярышня.
И только в Покровской церкви Яков Туфанов смог сделать то, что тщетно пытались его коллеги и предшественники. Он усвоил важное правило: хочешь сделать лучше, чем у господ, закажи господам и проект и не экономь на исполнении. В третьем поколении Туфановы были по сути уже дворяне. У них появилось что-то такое, что поколением-двумя раньше произошло и с российским дворянством. Вряд ли Яков Туфанов и его супруга уже чувствовали себя нелепо в «немецком» платье. Можно было смело вести в его дом и в его церковь царей. И они уж точно не стали бы смеяться над обхождением и повадкой потомственного торопецкого купца первой гильдии.
Яков Туфанов принимал у себя в доме в начале 1777 году псковского наместника Христофора фон Нолькена. Показывал, конечно, и свой Покровский храм. До приема царя или царицы дело не дошло по причинам от него не зависящим. Начинался упадок Торопца, а сам строитель Покровской церкви скончался осенью того же 1777 года…
Собственно, торопецкое купечество и священство и стремилось выйти в «господа», и делало это. Вероятно, уже Дерябин ощущал себя выше основной городской публики. Его младший современник, сын воскресенского протоиерея Глеб Иванович Громов дослужился до коллежского советника. Сын священника и иконописца Василия Васильевича Семевского Николай Васильевич Семевский был уже надворным советником и членом Санкт-Петербургского Вольного экономического общества (М.И. Семевский. Торопец уездный город Псковской губернии. 1864. С. 40). К этому шли и остальные.
Может быть мне позволят немного и пофантазировать? Ведь у меня не научная статья, так что - что хочу, то и вставляю. Вставлю-ка зарисовочку. Все совпадения, разумеется, случайны.
…В просторной горнице было тесно от большого количества жемчуга. Он сиял на одеждах всех сидевших здесь женщин, будто ссыпался с их богатых очелий и подвесок, играл и переливался в огоньках свечей. Головные уборы некоторых дородных баб казались целиком состоящими из жемчужного бисера, из-под которого поблескивали лишь золотные нити дорогих платков.
Было уже много выпито и спето чуть не все, что полагалось. Свадьба гуляла третий день, гости приходили и уходили; даже те, кто особо не мог что-то подарить, и те заходили, справлялись о хозяевах и желали здоровья. Приходили в основном посмотреть на новобрачного - вернувшегося из Петербурга младшего Дерябина. Свадьбу посетили все мыслимые и немыслимые гости, и купцы, и даже дворяне. Заглянул на девичник и побывал на венчании случившийся в городе секунд-майор Челищев. Показывались и другие господа.
-…И царицу видел, - в сотый раз повторял каждому новому гостю Гаврила Григорьевич.
-Помнит благодетельница-то наша про нас!
-Дай ей Господи здравия за заботу ее о купечестве русском!
-Не дает в обиду!
-Дала англичанам поворот! Вот как их, вот как она! – и хмельные гости густо вмазывались пальцами в пироги, демонстрируя, как крепко царица держит всех иностранных прохиндеев. Затем смачно откусывался жирный кусок, и чавканье сопровождалось радостным хохотом: вот как мы можем, а вы, иностранцы, нате, выкусите!
-А тебя-то, поди, не заметила, – заметил с ухмылкой мужичок, какая-то дальняя родня молодой, который никогда не бывал дальше Торопца.
Все голоса вдруг смолкли.
-Заметила, - с вызовом в голосе отозвался Гаврила. – Всех она замечает, вот истинный крест. Я ее не только на выходах видел, а вот и просто так, вот как тебя!
-Да ведь и не может такого быть! Ведь завираешь! Ну, скажи, скажи! Я-то вот он, а вот он ты. Это одно! А перед царицей-то ты поди, как и дышать-то забыл.
Гости опять весело захохотали.
Дерябин побледнел.
-Я, хочешь сказать, вру? Я?
Драки на свадьбе до сих пор не было, а она назревала. Но мужичок был явно не того калибра, чтобы на него размениваться. К тому же теща яростно зашипела, так что аж серьги в ее ушах затряслись. Среди гостей было несколько приглашенных попов, которых было как-то неудобно. И мужики, сообразив, что не время еще, закачали головами, подтверждая, что молодой врать никак не может.
-Я знаешь кто? - жестко заметил Гаврила Григорьевич, - знаешь как меня господин главный ар-хе-те-ктор назвал? «Господин живописец»! Не «Ганька иконник» какой-нибудь. Господин живописец! К царице в палаты ведаешь, каких мастеров пускают? Которые могут ее саму в самом истинном виде на холсте написать, только на нее раз и взглянув. Вот какие!
-То они, а то – ты.
-И я могу. Ну, может, не так складно, а могу. Могу царицыно платье хоть сейчас написать со всем узорочьем, а ее светлые очи не пишу… – Дерябин задумался, а затем медленно произнес подходящие слова, - что не дерзаю.
-Вот меня можешь написать! – вступился молодой купчик, сидевший напротив.
-Тебя могу, только и ты, брат, пока не та шишка, чтобы лицо твое живописью писать. Вот разве отца твоего…
-Я-то ладно, - согласился купчик, - с меня, маленького человека, какой спрос. Но неужто мир наш, город наш, писать побрезгуешь? Вот хоть нас, кто тут нынче был, кто тебя славил, кому ты тут с младых ногтей ведом? А вот хоть свадьбу свою? Вот как господин Челищев на Катю твою смотреть приходил?
-Не побрезгую! И напишу! – Гаврила Григорьевич воодушевился и встал. - По сердцу так скажу: много городов на свете, большой город Москва, славный город Петербург, а лучше нашего Торопца никакого города нету! Нету на всем белом свете!
И нестройный гул голосов за столом зашумел как единый могучий улей:
-Сла-ва! Сла-ва! Городу нашему слава! Новобрачным слава! Многая, многая, многая лета!
И в заключение
Мне не хочется завершать этот очерк так, как закончил свою книгу А.А. Галашевич, про то, что, дескать, 1772 год подкосил экономику Торопца, что с достройкой сельских храмов, часто начатых еще задолго до официальной даты освящения, закончился его «золотой век».
Город, конечно, в этот момент не развалился. Еще долго в Торопце продолжают работать хорошие живописцы: Гаврила Лохов, Абрам Клюквин и другие. Но их история уже выходит за рамки нашей статьи, да и память о себе они оставили уже не как иконописцы.
Еще бы Артур Адамович написал бы что-нибудь про то, как важно приехать в Торопец, своими ногами обойти, своими руками потрогать его затейливые руины.
Это последнее и в самом деле стоит сделать. Но я хотел бы сказать о другом.
Один любопытный пример рассказывает тверская мемуаристка, дочка священника Анна Александровна Колтыпина, писавшая свои записки в начале XX века, уже после катастрофы, собирая семейные предания. Одно из них случайно оказалось связанным с Торопцем. Вспоминая об отце, Александре Александровиче Звереве (1828 года рождения), она пишет, как тот, по окончании курса семинарии поступил домашним учителем в имение помещиков Абашевых в Торопецкий уезд.
«Сам Абашев, - пишет Анна Александровна, - любил делать в имении различные нововведения. Так, вычитал он в каком-то журнале, что крыша, сделанная из творога, имеет необыкновенную прочность (если хорошо высохнет на солнце) и блеск. Тотчас же он распорядился, чтобы все его крепостные доставляли нужное количество творогу в другое имение, где у него строился новый дом. И вот весной потянулись за целые десятки верст крестьянские подводы с творогом к новому барскому дому. Скоро забелела крыша, покрытая слоями творога. Необходимой толщины. Барин посматривает и радуется, но погода вдруг изменилась, пошел дождь, и с крыши потекли белые потоки. Яростными врагами крыши оказались также вороны и другие птицы, целыми стаями прилетавшие полакомиться вкусным кушаньем. Так и пришлось Абашеву расстаться со своей затеей и покрыть дом более надежным материалом».
Допустим, это анекдот. Уже в конце XIX века – «преданье старины глубокой». Но каков же образ! По большому счету, дивное торопецкое барокко – это как раз такая крыша из творога, абсолютно бесполезная, непрактичная, невозможная и - осуществленная. А дальше... Нашлось уже в двадцатом столетии воронья – слететься и все уничтожить. А не уничтожили бы – рассыпалось бы, растеклось само. Да и растекалось уже.
Но ведь было. Были могучие силы, были исключительные таланты, были и дерзость, и хватка, и умение, и беззаветная отдача себя одному-единственному проекту. Можно смеяться, можно слать проклятия «крепостничеству», можно пожимать плечами, не понимая. Но нельзя игнорировать. Просто из уважения к крепостным мастерам, к тем полуизвестным иконописцам. К их труду, который никак не был нашей бессильной культурной дистрофией, когда нет сил и досочку-то одну отвалившуюся ровно на место прибить. Не то, что создать нечто равноценное и великое.
В этом, наверное, и урок Торопца для нас. Великое и столичное было создано в самой глухой глуши, без всякого стеснения и без комплекса неполноценности. А ведь могло запросто и даже должно было бы не появиться. Ибо откуда? Пограничный город, далекая от столиц провинция, диковатые нравы. Зачем?
А появилось. Ибо дух дышит, где хочет. И, как знать, что еще сможет породить эта прекрасная земля.
Мы всегда надеемся на лучшее.
Павел Иванов. Тверь. Декабрь 2020 - январь 2021.
|
Метки: Отсутствуют |
Для печати
К началу |
|
- Троице-Небин монастырь (XVIII). Улица Лермонтова (Монастырская). Историческая застройка (кон. XIX-XX)
- Соловьева (Казанская) улица. Историческая застройка (XVIII- 1 пол. XX). Казанская церковь (1698 (?), 1742-1767). Храмовая живопись (1 четв. XIX)
- Рождества Иоанна Предтечи церковь (1703). Храмовая живопись (3 четв. XVIII, XIX). Историческая застройка площади (кон. XVIII- нач. XIX)
- Троицкая церковь (1753-1767). Храмовая живопись (2 пол. XVIII, 1 пол. и кон. XIX)
- Усадьба Якшино (2 пол. XVIII в.) Благовещенская (Пятницкая) церковь (1758, 1788). Храмовая живопись (2 пол. XVIII в.)










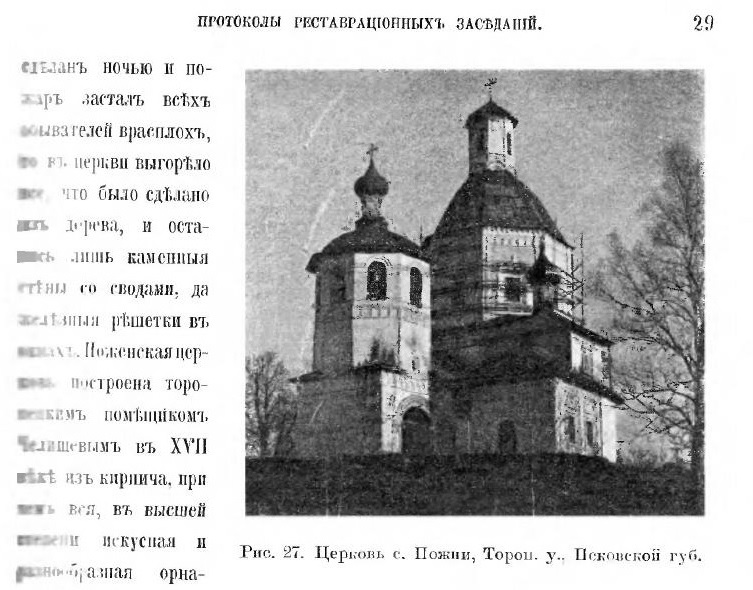

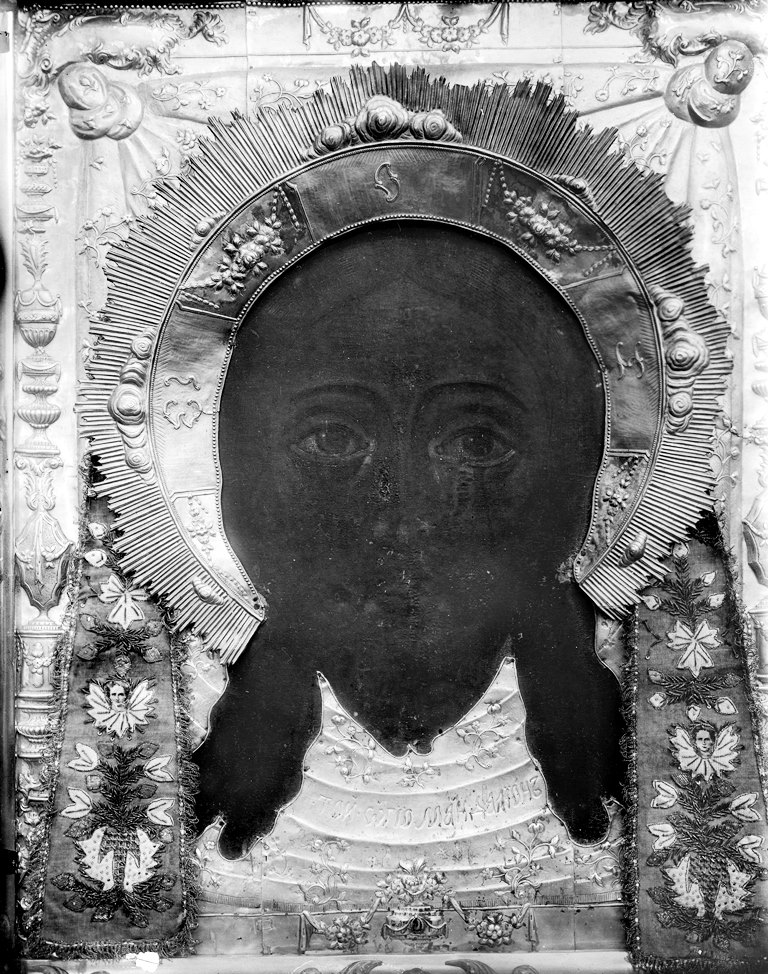
.JPG)


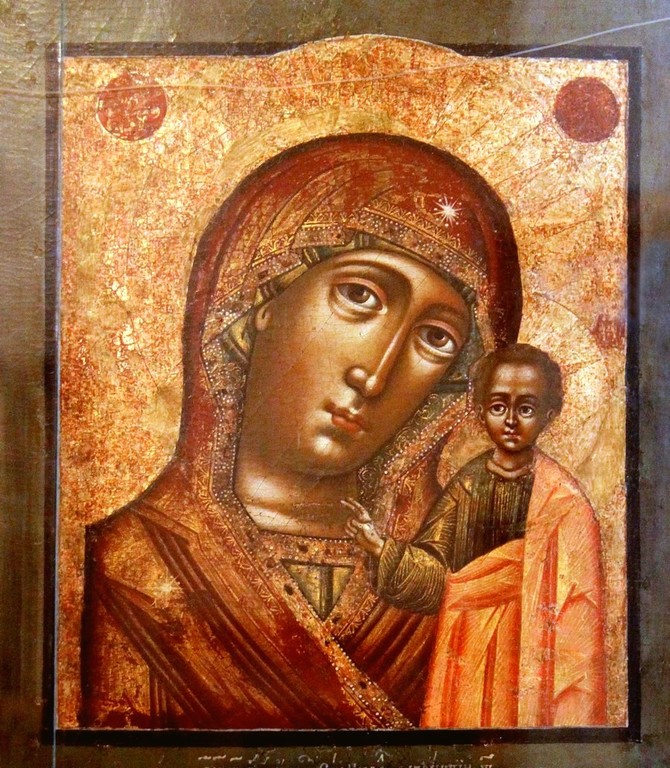





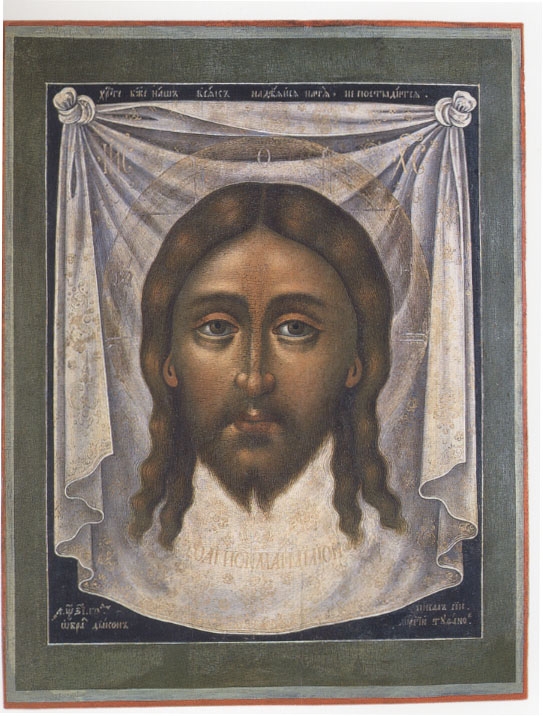

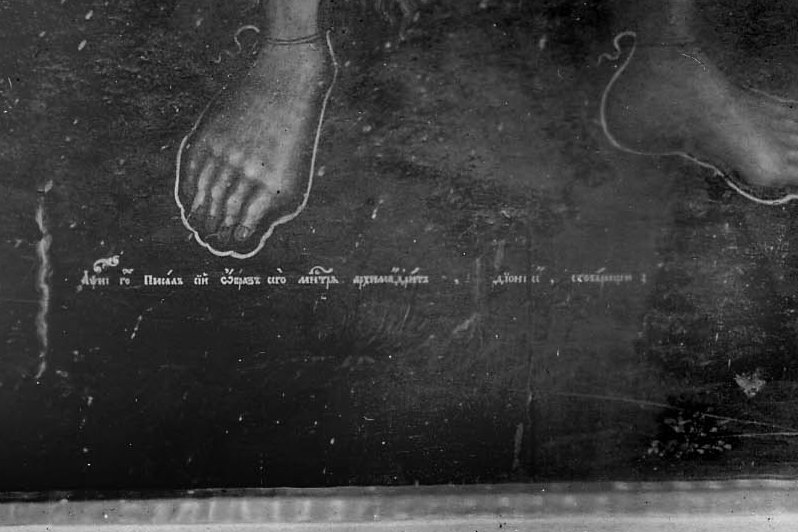
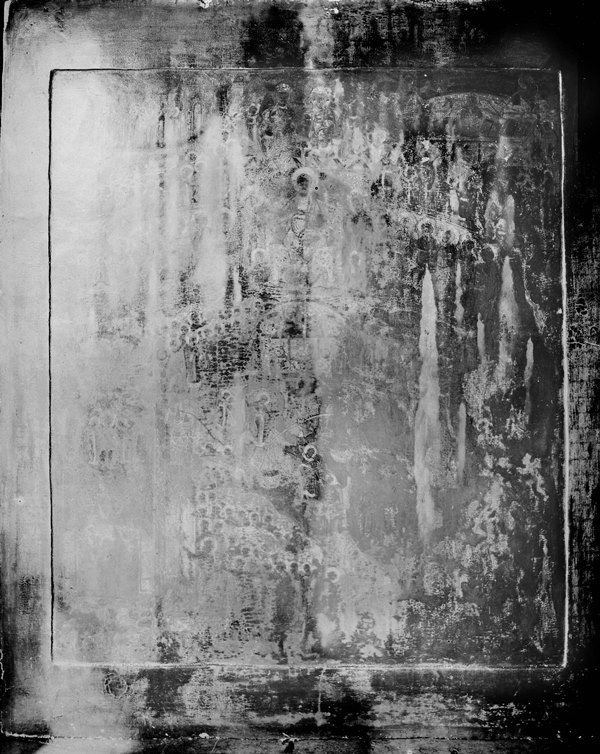



.JPG)







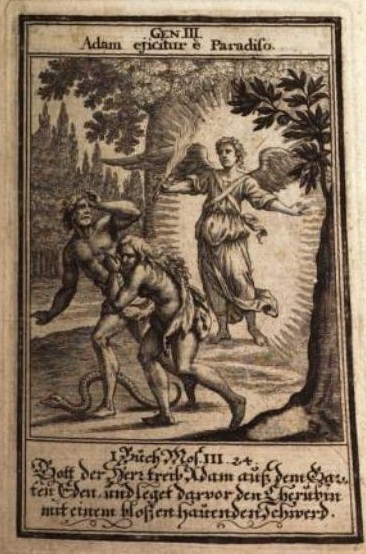








.JPG)







.jpg)
.jpg)









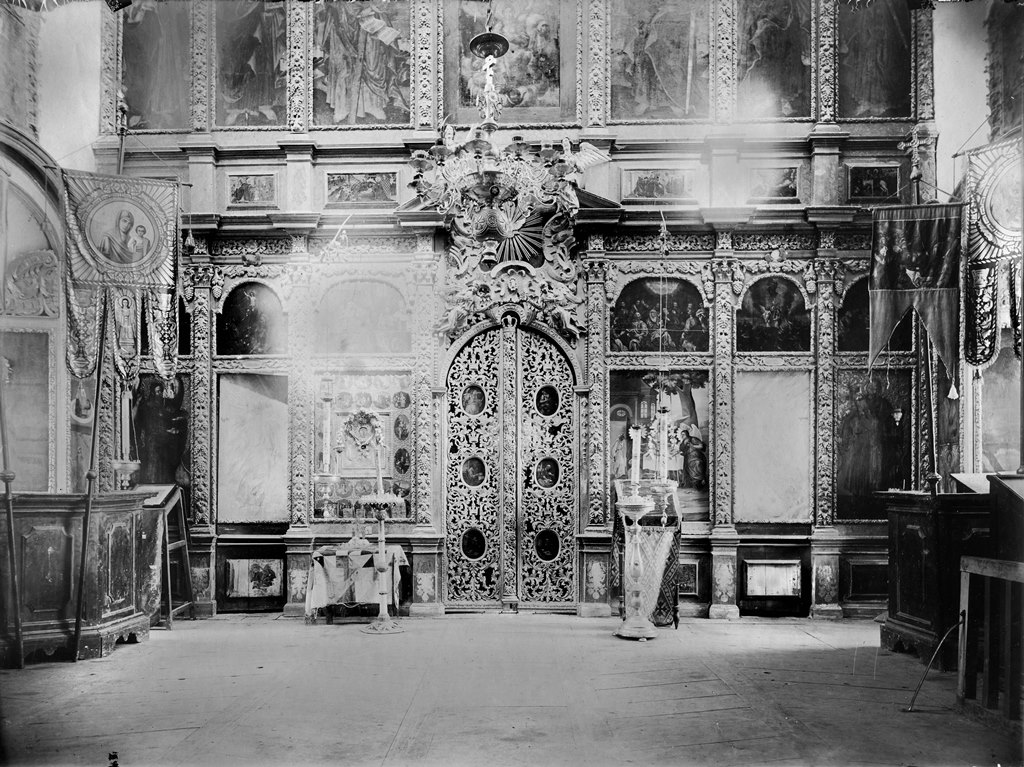





.JPG)
.jpg)
 — копия.jpg)








.jpg)



.jpg)




.jpg)

.jpg)


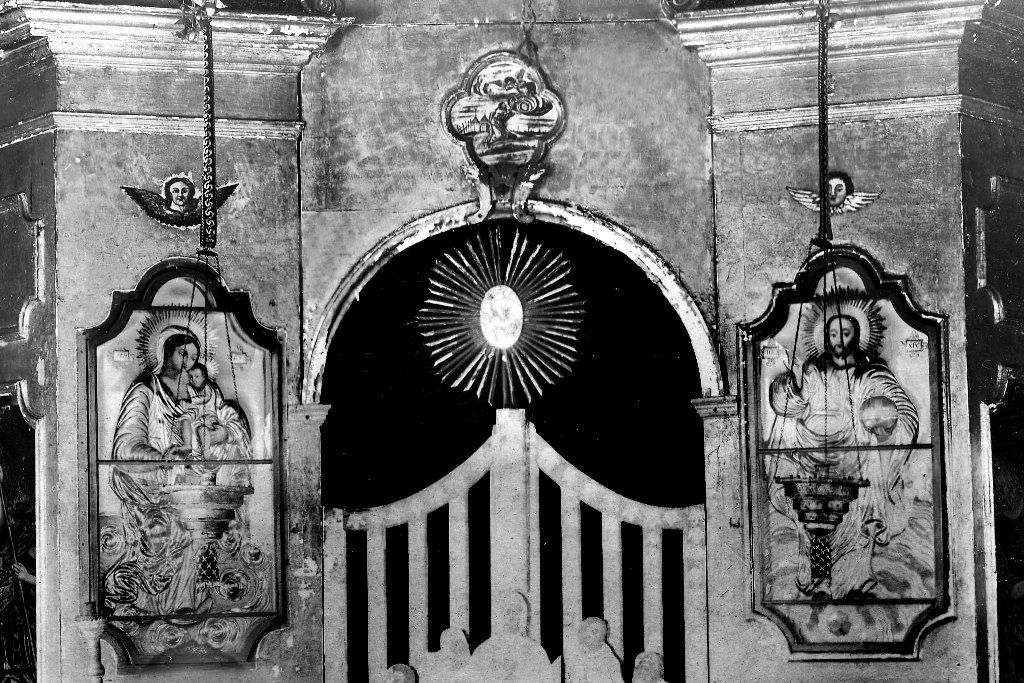



.jpg)

.JPG)
.JPG)


.JPG)
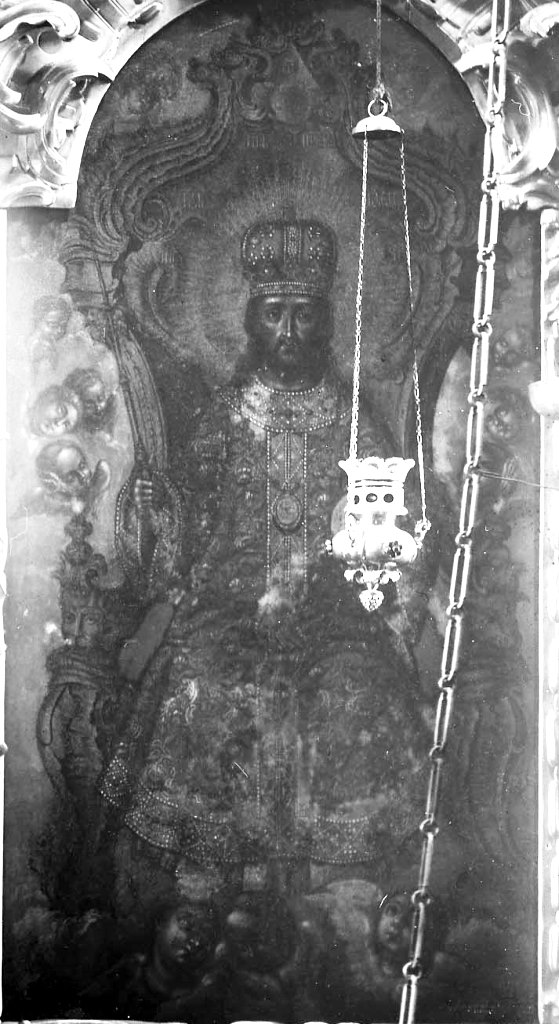





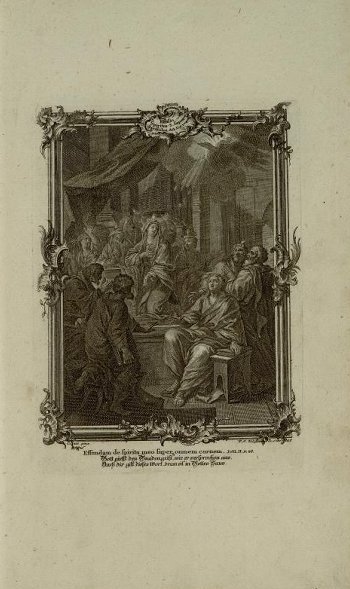
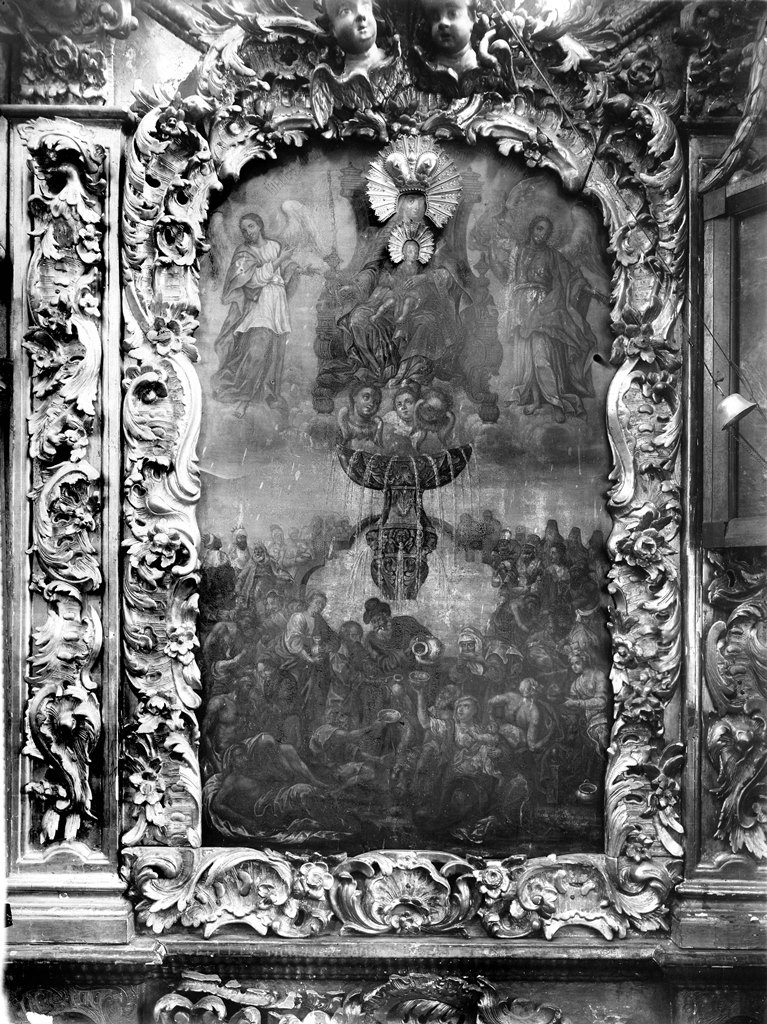




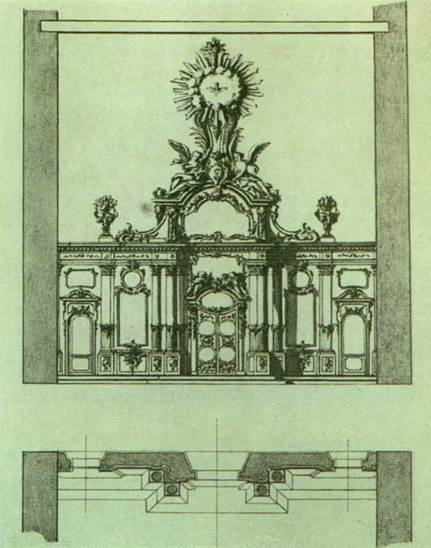


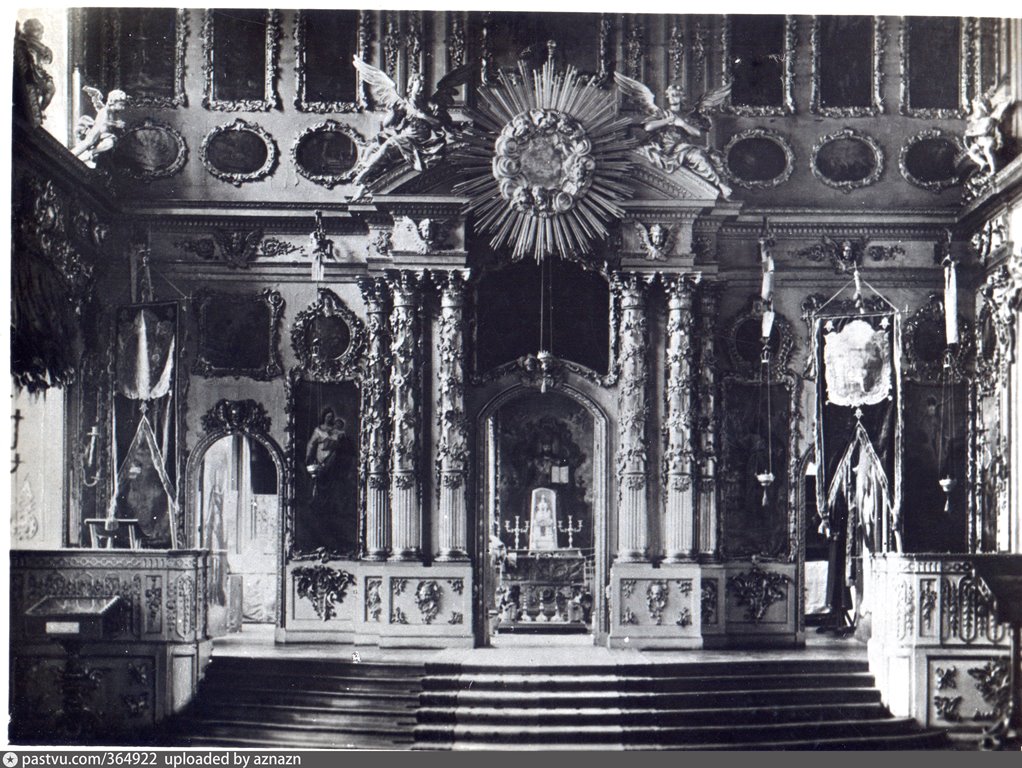
.jpg)